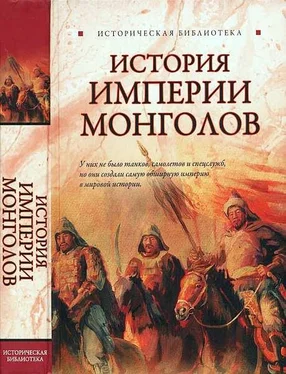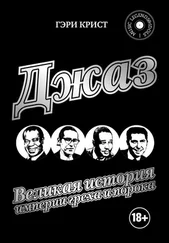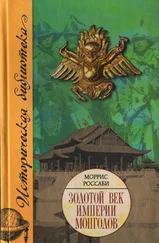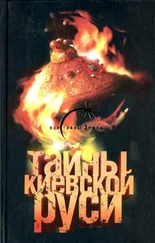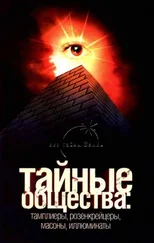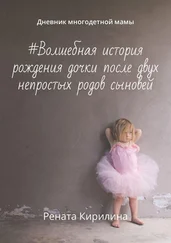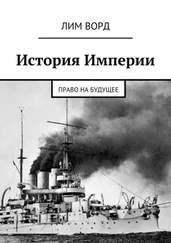Современники описывали Акбара так:
«Внешность и лицо владыки соответствовали его царскому достоинству, так что с первого взгляда было понятно, что это — царь. У него широкие плечи, светло-коричневая кожа, а голову он держит немного склоненной к правому плечу. У него широкий открытый лоб, глаза лучатся и сверкают подобно озеру, искрящемуся в лучах солнца. Все его тело необыкновенно пропорционально. Он ни худ, ни толст, зато силен, здоров и крепок. Смеется он совершенно непринужденно, изъясняется спокойно, ясно и открыто, с сознанием собственного достоинства, а если бывает сердит — то и с внушающим страх величием. Вопреки обычаям своего рода он стрижет волосы и носит на голове не накидку, а тюрбан, из-под которого выбиваются пряди волос; говорят, он это делает для того, чтобы понравиться своим индийским подданным».
Вельможи акбарова времени, наверно, имели право не любить своего правителя. Бог с ней, с единой верой. Согласно К. Антонову, «…юридически джагирдару (то есть аристократу. — Автор) жаловалась не конкретная земля и не крестьяне, а лишь право сбора в свою пользу государственного земельного налога-ренты с определенной территории. Доходы джагирдаров были огромны, но собственности у них не было. По смерти джагирдара все, чем он владел: деньги, дома, слоны, предметы роскоши, даже книги, — все отбиралось в казну. Родственники важного сановника на другой день после его кончины оказывались без всяких средств к существованию и могли рассчитывать лишь на то, что его сыновьям дадут какую-нибудь службу и соответственное пожалование».
Такое отношение к вельможам вряд ли могло принести Акбару покой, а тут еще и «причуды» — падишах вдруг стал появляться с брахманским знаком на лбу и шнурком вокруг рук. К тому же издал указ о собственной непогрешимости. Приближенные мусульмане роптали. Местные жители, впрочем, относились к падишаху лучше, чем близкие по крови единоверцы. Эти единоверцы в 1580 году создали даже заговор против Акбара, называя его не иначе чем «правитель-вероотступник». Тем не менее, Акбар пережил и несогласие среди близких людей, и заговор мятежных эмиров, и умер своей смертью в 1605 году.
Он был первым укоренившимся Моголом, но никто из последующих не сделал и вполовину того, что сумел совершить Акбар.
Его сын Джехангир, то есть завоеватель мира, начал с того, что пытался убить своего отца. Он тогда еще назывался Селимом, имя Джехангира он принял после восшествия на престол. Акбар мягко обошелся с сыном даже после мятежа, поднятого Селимом в 1601 году, он официально назначил его наследником престола. Вряд ли Джехангир в полной мере оценил деликатность и всепрощение своего отца. Через четыре года Акбар заболел дизентерией и скончался, тогда-то на престол и взошел его сын, и тут же поменял свое имя. Ему, конечно, было нелегко в лучах славы Акбара. И начал он с того, что отменил все самые смелые указы Акбара. Сразу же он издал свои «12 правил», закрепив земельные владения и прочие пожалования за теми, кому они были уже даны: джигардиры могли не бояться за будущее, теперь у них никто не мог отнять имущества. Джехангир оказался правителем непоследовательным и нерадивым, гораздо более времени, чем государственным делам, он уделял пьянству и курению опиума, да, да — Джехангир был… наркоманом!
Со своим собственным сыном Хусру, поднявшим почти сразу мятеж против отца, Джехангир обошелся совсем не столь милостиво: он пошел в Пенджаб, где укрывался Хусру, с большим войском, разбил сына, казнил его сторонников, взыскал огромный штраф с поддержавшего Хусру местного гуру Арджана, когда же гуру платить отказался, то лишился и жизни, а самого Хусру отец велел ослепить.
Как видите, с великодушием у Джехангира было плохо. Вместо мягкого правления началось право твердой руки. Новый правитель предпочитал не договариваться, а карать. Не удивительно, что с таким пониманием задач правления Джехангир сразу же заработал себе врагов — сикхов, стоявших за своего гуру Арджана. К своим землям ему удалось присоединить только Мевар, с правителем Мевара он обошелся ласково, то есть не казнил, а, напротив, наградил.
Но следующая его попытка занять еще кусок индийской территории кончилась плачевно. Когда Джехангир пошел на Ассам, его армия была разбита, а весь речной флот (Могол использовал для войны и флот) уничтожен. Акбар не стремился захватывать крепости, которые не желают сдаваться, понимая, что вряд ли при таком настроении обороняющихся он получит хороших подданных. Джехангир напротив, кажется, испытывал удовольствие, если ему удавалось подчинить индусов насильно. На осаду крепости Кангра он истратил пять лет, в конце концов, взял ее. Праздновал он это событие как величайшую победу. Первое, что после победы он сделал, — велел в индуистской крепости тут же построить мечеть!
Читать дальше