Белинский был изгнан из университета с лицемерной формулировкой «по слабости здоровья и ограниченности способностей» (предлогом стала продолжительность болезни Белинского — с января по май 1832 г.). Белинский был вынужден заниматься корректорской работой, переписывать бумаги, пробиваться частными уроками и в то же время заниматься самообразованием. В это время он вошел в новый кружок из студентов и выпускников университета, группировавшийся вокруг Н. В. Станкевича (1831–1839). Кружок Станкевича состоял из людей, интересовавшихся, главным образом, вопросами философии и этики, и развивался под влиянием идей немецкого философа Шеллинга, проповедовавшихся профессорами Павловым, у которого Станкевич и жил, и Надеждиным.
Кружок Станкевича оказывал заметное влияние на идейную жизнь общества. Из него вышли будущие славянофилы (К. С. Аксаков, Ю. Ф. Самарин), западники (Т. Н. Грановский, В. П. Боткин), революционеры (В. Г. Белинский, М. А. Бакунин), К. Д. Кавелин. Взгляды членов кружка были умеренны: распространение просвещения, которое само собою якобы должно привести к изменению «быта общественного».
В 1831 году сложился кружок А. И. Герцена и Н. П. Огарева, который имел острую политическую направленность. Целью кружка, в который входили Н. И. Сазонов, Н. М. Сатин, Н. X. Кетчер, В. В. Пассек и другие, было революционное преобразование России. «Мы подали друг другу руки, — вспоминал Герцен, — и … пошли проповедовать свободу и борьбу во все четыре стороны нашей молодой Вселенной». Идеология кружка была расплывчата и политически незрела. «Идеи были смутны, — писал Герцен, — мы проповедовали декабристов и французскую революцию, конституционную монархию и республику; чтение политических книг и сосредоточение сил в одном обществе, но пуще всего проповедовали ненависть ко всякому насилию, ко всякому правительственному произволу…». Позже Герцен и его друзья обратились к утопическому социализму, и прежде всего, к сен-симонизму. Герцен и Огарев не отказались также и от политической борьбы и оставались «детьми декабристов». Огарев писал:
«Ученики Фурье и Сен-Симона,
Мы поклялись, что посвятим всю жизнь
Народу и его освобожденью,
Основою положим социализм».
В 1834 г. Герцена и Огарева арестовали за пение песен, наполненных «гнусными и злоумышленными» выражениями в адрес царя, и после длительного тюремного следствия выслали без суда: Герцена — на службу в Пермь, Вятку, а затем во Владимир, Огарева — в Пензу.
Революционный подъем начала 30-х годов XIX в. в Западной Европе сменился полосой упадка, торжества реакционных сил. Для этого времени особенно характерны настроения пессимизма, отчаяния, неверие в возможность борьбы за лучшее будущее. Эти настроения нашли яркое отражение в первом «Философическом письме» П. Я. Чаадаева, опубликованном в 1836 году в журнале «Телескоп».
Друг А. С. Пушкина и декабристов, офицер в царствование Александра I, П. Я. Чаадаев тяжело переживал поражение восстания декабристов, ушел в отставку. Произведения Чаадаева свидетельствовали о том, что их автор пришел к самым пессимистическим выводам, которые заключали в себе страстные нападки на Россию, ее отсталость, некультурность, ничтожность ее истории, убожество ее настоящего. Потеряв надежду на возможность общественного прогресса в России, он писал: «Окиньте взглядом все пережитые нами века … вы не найдете ни одного приковывающего к себе воспоминания… Мы живем лишь в самом ограниченном настоящем, без прошедшего и без будущего, среди плоского застоя… Одинокие в мире, мы миру ничего не дали, ничего у мира не взяли…».
Чаадаев писал о разных исторических, путях России и других стран Европы. Он подчеркивал, что все народы Европы имели «общую физиономию», «преемственное идейное наследие». Сопоставляя это с историческими традициями России, Чаадаев приходит к выводу, что ее прошлое было иным: «Сначала дикое варварство, затем грубое суеверие, далее — иноземное владычество, жестокое, унизительное, дух которого национальная власть впоследствии унаследовала, — вот печальная история нашей юности».
Чаадаев считал, что все беды России от ее отлученности от «всемирного воспитания „человеческого рода“», от национального самодовольства и связанного с ним духовного застоя. Основной бедой он считал отрыв от католического мира.
«По воле роковой судьбы мы обратились за нравственным учением, которое должно было нас воспитать, к растленной Византии, к предмету глубокого презрения всех народов… затем, освободившись от чужеземного ига, мы могли бы воспользоваться идеями, расцветшими за это время среди наших братьев на Западе, если бы только не были отторгнуты от общей семьи, мы подпали рабству, еще более тяжелому…».
Читать дальше
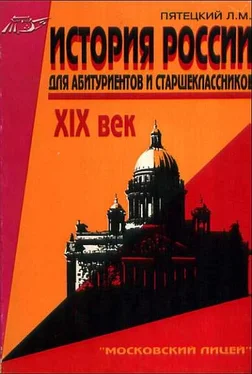










![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/432372/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal-thumb.webp)
