Славянофилы видели недостатки общественно-политического строя николаевской России и иногда подвергали резкой критике засилье бюрократии и ее произвол, несправедливость судей, взяточничество чиновников.
В одном из своих стихотворений А. С. Хомяков с горечью писал:
«В судах черна неправдой черной
И игом рабства клеймлена,
Безбожной лести, лжи тлетворной,
И лени мертвой и позорной
И всякой мерзости полна».
«Где рабство — там бунт и беда, защита от бунта — свобода», — писал К. С. Аксаков. Положительное значение имел практический вклад славянофилов в изучение быта, нравов, песен народа.
В 40-е годы XIX в. противники обвиняли славянофилов в том, что они находятся под покровительством правительства. Под впечатлением недавних споров Герцен писал в 1850 г.: «Славянофилы пользовались большим преимуществом перед европейцами (западниками — Л.П.), но преимущества такого рода пагубны: славянофилы защищали православие и национальность, тогда как европейцы нападали на то и другое; поэтому славянофилы могли говорить почти все, не рискуя потерять орден, пенсию, место придворного наставника или звание камер-юнкера. Белинский же, напротив, ничего не мог говорить; слишком прозрачная мысль или неосторожное слово могли довести его до тюрьмы, скомпрометировать журнал, редактора и цензора. Но именно по этой причине все симпатии снискал смелый писатель, который, в виду Петропавловской крепости, защищал независимость, а все неприязненные чувства обратились на его противников, показывавших кулак из-за стен Кремля и Успенского собора и пользовавшихся столь широким покровительством петербургских „немцев“».
Споры западников и славянофилов… Они были парадоксальным отражением глубокого внутреннего единства западничества и славянофильства. На одну из сторон этого единства указал Герцен: «Да, мы были противниками их, но очень странными. У нас была одна любовь, но неодинаковая. И мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно».
При всех идейных разногласиях славянофилы и западники сходились в отрицательном отношении к крепостному праву и к современному им бюрократическому полицейскому строю государственного управления. Оба течения требовали свободу слова и печати и в глазах правительства оба являлись «неблагонадежными» (западники в большей степени).
Особое место в общественном и освободительном движении тех лет занимает кружок петрашевцев (1844–1849), получивший свое название по имени его руководителя — М. В. Буташевича-Петрашевского. Члены кружка находились под влиянием идей современного французского социализма — идей Фурье — и обсуждали на своих собраниях социальные вопросы. Петрашевский называл себя «старейшим пропагандистом социализма». На собраниях Петрашевского бывали М. Е. Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский. Большинство петрашевцев, в отличие от либералов (западников и славянофилов), выступало за республиканское устройство, полное освобождение крестьян без выкупа. Все участники кружка петрашевцев (в т. ч. и великий русский писатель Ф. М. Достоевский) были арестованы и приговорены к расстрелу, но затем помилованы и сосланы на каторгу в Сибирь.
Вопросы и задания для устного выполнения
1. Почему революционные кружки 20-х — 30-х годов создавались в Москве, а не в Петербурге?
2. Каких философских взглядов придерживались члены кружков Н. В. Станкевича, А. И. Герцена и Н. П. Огарева?
3. В чем было отличие взглядов на прошлое и будущее России западников и славянофилов?
4. Что объединяло западников и славянофилов?
5. Чем объяснить популярность статей В. Г. Белинского среди молодежи 1-ой половины XIX века?
8. Внешняя политика России в 1826–1856 гг. Крымская война
В течение всего царствования Николая министерством иностранных дел управлял граф Карл Нессельроде. При Александре — дипломат по особым поручениям, орудие личной политики императора по части секретных переговоров с предателями Наполеона — Талейраном и Коленкуром, с 1816 г. — его статс-секретарь по дипломатической части.
Как пишет русский историк А. Е. Пресняков: «При раздвоении русской внешней политики между общеевропейскими тенденциями эпохи конгрессов и русскими интересами в Восточной Европе, Нессельроде был носителем первых, как другой статс-секретарь Каподистрия — вторых, по их связи с его греческим патриотизмом».
Поворот к большей независимости русской политики в восточном вопросе, происшедший в конце правления Александра I и усвоенный Николаем, был сформулирован Нессельроде в первом же его докладе новому императору, где умело разграничивались общеевропейские вопросы и непосредственные интересы России.
Читать дальше
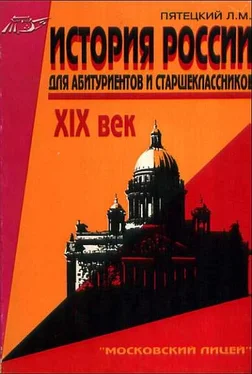










![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/432372/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal-thumb.webp)
