В порядке же судебном предполагалось, что Сенат будет «верховным судилищем» для всей империи, а под его руководством будут действовать суды волостные, окружные и губернские.
Деятельность этих трех высших учреждений (Гос. Думу, министерства и Сенат) должен был объединять Государственный Совет, состоящий из представителей аристократии.
Точка зрения
Известный русский историк В. О. Ключевский писал: «Ворвавшись со своими крепкими неизрасходованными мозговыми нервами в петербургское общество, уставшее от делового безделья, Сперанский взволновал и встревожил его, как струя свежего воздуха, пробравшаяся в закупоренную комнату хворого человека… Он (Сперанский — Л.П.) был способен к удивительно правильным политическим построениям, но ему туго давалось тогда понимание действительности, т. е. истории. Приступив к составлению общего плана государственных реформ, он взглянул на наше отечество, как на большую грифельную доску, на которой можно чертить какие угодно математически правильные государственные построения. Он и начертил такой план, отличающийся удивительной стройностью, последовательностью в проведении принятых начал. Но, когда пришлось осуществлять этот план, ни государь, ни министр никак не могли подогнать его к уровню действительных потребностей и наличных средств России».
В. О. Ключевский
План Сперанского был начат в конце 1808 г. и в начале октября 1809 г. уже лежал на столе императора Александра I вполне готовый.
Император сочувствовал общему направлению проекта Сперанского и предполагал начать его осуществление с 1810 г.
Проект учреждения Государственного совета до его публикации был показан некоторым влиятельным сановникам — Завадскому, Лопухину, Кочубею и другим, без посвящения их, однако, в тайну всего задуманного преобразования. Все эти сановники отнеслись к проекту вполне одобрительно, не имея понятия о том значении, какое должен был иметь Государственный совет по плану Сперанского. Между тем, несмотря на все старания Сперанского занять независимое положение вне всяких придворных группировок, против него образовалось уже тогда в чиновничьем, дворянском и придворном кругах чрезвычайно враждебное отношение. Оно особенно обострилось ввиду двух указов — 3 апреля и 6 августа 1809 г., которые приписывались прямому влиянию Сперанского. Указ 3 апреля 1809 г. предписывал, чтобы все лица, носившие придворные звания, избрали себе какую-либо службу. Нужно сказать, что раньше знатные люди занимали высшие придворные звания; они не несли никакой службы при дворе (этих людей сам Александр зачастую называл в шутку придворными полотерами), а между тем пользовались большими правами. Закон 1809 г. о придворных чинах гласил, что все вельможи должны нести действительную службу при дворе, а не числиться только на ней — или будут отставлены. Придворная знать встретила этот закон со страшным негодованием и озлобилась на Сперанского до бешенства.
В том же 1809 г. был издан другой закон, направленный в адрес самих чиновников; высшие чины 8 и 5 класса (5 класс — статский советник) по службе могли получать теперь только те люди, которые кончили университет или кто выдержит соответствующий экзамен. Этот закон произвел большой переполох среди малообразованных чиновников; многие почтенные старики, которые уже мечтали о чине статского советника, остались не у дел, ибо не имели университетского образования и не считали себя способными выдержать серьезный экзамен.
1 января 1810 г. был открыт преобразованный Государственный совет (вместо Непременного совета 1801–1810). Однако в манифесте царя об утверждении Государственного совета оказалась выхолощенной основная мысль, высказывавшаяся ранее и Александром, и Сперанским — о разделении законодательной, судебной и исполнительной властей, действия которых координировал бы Государственный совет. Теперь ему вменялись в обязанность лишь законосовещательные функции при императоре. Император, как и прежде, единолично решал многие важнейшие вопросы. Традиции самодержавия продолжали действовать, и Александр их поддерживал, проводил в жизнь. В чем же здесь дело?
Точка зрения
«… Снова сработала система, снова человек системы, несмотря на благие декларации и подталкивание своих сподвижников к реформам, в решающий момент сделал шаг назад. И не только потому, что сам он был не готов к реформам, но и потому, что к ним были не готовы Россия, российское общество, медленно и тягуче, в соответствии с общим течением жизни, втягивавшееся в новое общественное русло.
Читать дальше
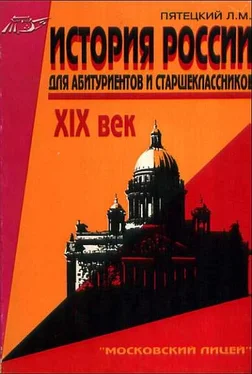









![Александр Бушков - Кто в России не ворует. Криминальная история XVIII–XIX веков [litres]](/books/432372/aleksandr-bushkov-kto-v-rossii-ne-voruet-kriminal-thumb.webp)
