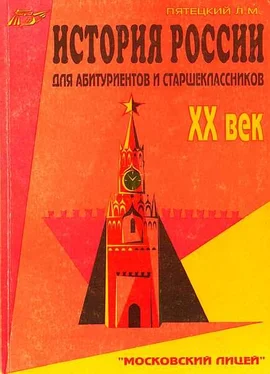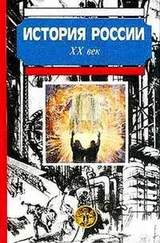Крупнейшими банковскими монополиями были Петербургский международный банк (10 % всех банковских активов России).
Русский для внешней торговли (8,8 %), Азовско-Донской (8 %) и Русский торгово-промышленный (7,7 %).
В процессе монополизации в России историки выделяют несколько этапов.
В 80-е-90-е гг. XIX в. возникли первые картели на основе временных соглашений о совместных ценах и разделе рынков сбыта. Происходило и усиление банков.
В период кризиса и депрессии (1900–1908) создаются крупные синдикаты. Синдикаты объединяли сбыт товаров, но уже в определенной степени вмешивались в развитие производства входящих в них предприятий.
В начале XX века возникли синдикаты в ряде отраслей: «Продуголь», «Продпаровоз», «Гвоздь», «Трубопродажа», «Продвагон», «Медь», «Треугольник», «Продамета». Синдикаты заняли господствующие позиции в сбыте товаров в своей отрасли. Например, «Продуголь», объединявший 17 предприятий, сосредоточил до 60 % сбыта донецкого угля.
В 1902 г. металлургические заводы юга создали крупнейший в России и один из самых крупных в Европе синдикат «Общество для продажи изделий русских металлургических заводов» («Продамета»). «Продамета» создавался при прямой поддержке министра финансов С. Ю. Витте. Синдикат сначала объединял 17 обществ, потом их число дошло до 30. Во главе синдиката стоял совет, а исполнительным органом было правление общества со сложным и разветвленным торговым аппаратом. Кроме центральной конторы в Петербурге было открыто еще 8 контор в районах, где были заводы синдиката: Одесская, Харьковская, Ростовская, Киевская, Московская, Рижская, Саратовская, Варшавская. Синдикат «Продамета» объединил до 70 % сбыта листового железа, свыше 80 % балок, свыше 90 % вагонных осей и т. д. Результаты экономической политики Витте были впечатляющими.
Цифры
«За тринадцать лет (1887–1900 гг.) занятость в промышленности увеличилась в среднем на 4,6 % в год, а промышленное производство возросло на 6,4 %. Общая протяженность железнодорожной сети за двенадцатилетний срок (1892–1904 гг.) удвоилась».
Н. Верт
«Выплавка чугуна в России в 1887 г. составляла 35,6 млн. пудов, в том числе на юге — 3,3 млн. пудов; в 1904 г. всего в России — 152,6 млн. пудов, в том числе на юге — 72,8 млн. пудов (увеличение в 22 раза!). Добыча каменного угля в Донецком бассейне в 1887 году составляла 125,5 млн. пудов, в 1904 г. — 798,6 млн. пудов. Оборот внешней торговли составлял в 1881 г. 1024 млн. рублей (вывоз 506 млн., ввоз 518 млн.), в 1903 г. — 1683 млн. рублей (вывоз 1001 млн. рублей, ввоз 682 млн. рублей).»
С. Г. Пушкарев
Одним из последствий экономического развития к. XIX — нач. XX стало образование промышленного пролетариата. В ходе вызванного реформами промышленного развития вчерашние крестьяне переселились из деревень в города, вырвались из привычного окружения и должны были осваивать новую среду обитания. Приобщение людей к новым ценностям шло медленно и трудно. В фабричных поселках и на рабочих окраинах промышленных центров шло сосредоточение людей, оторванных от своей обычной среды обитания, не уверенных в своем будущем, смутно ориентировавшихся в настоящем. Часто такие социальные слои называются маргинальными [2] От лат. margo — край.
, т. е. находящимися на краю.
По мнению западных исследователей, советские историки переоценивали (под влиянием преувеличенной оценки Ленина) численность российского пролетариата. По оценочным данным французского историка Н. Верта количество рабочих, находящихся на заработках в различных отраслях сельского хозяйства, промышленности и торговли, не превышало 9 млн. (по данным российских историков около 14 млн.). Что же касается рабочих в строгом смысле слова, их насчитывалось всего 3 млн. человек.
И все же, историки сходятся на том, что чрезвычайно высокий уровень промышленной концентрации способствовал возникновению подлинно рабочего класса, подчиненного капиталистическим формам производства. Русский пролетариат был молодым, с ярко выраженным разделением между небольшим ядром потомственных рабочих высокой квалификации и подавляющим большинством подсобных рабочих, недавно прибывших из деревень.
Точка зрения
«В рабочей среде одного и того же города классовое сознание было далеко от единства; так, например, в Москве железнодорожники или рабочие-металлурги завода Гужона считали себя рабочей элитой по сравнению с сезонными рабочими, нанимавшимися зимой на пищевые или кожевенные предприятия. То же самое наблюдалось в Санкт-Петербурге, где путиловцы и рабочие кораблестроительных верфей, более двух поколений жившие на Выборгской стороне, считали себя непохожими на работников текстильной промышленности, недавно прибывших из Костромской губернии».
Читать дальше