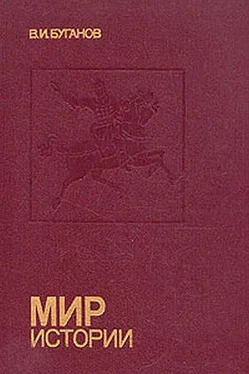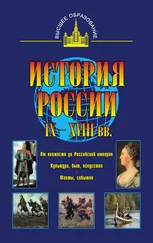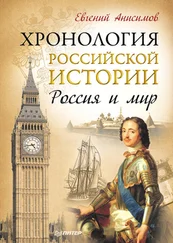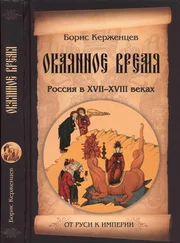Польские власти действуют то кнутом, то пряником. «Статьи для успокоения русского народа», изданные ими три года спустя после восстания Трясылы, признают право украинских подданных («русских») на православную веру. Киевским митрополитом назначают Петра Могилу — сторонника соглашения с поляками.
На казаков же сыплются репрессии: строго проверяют списки реестровых, выгоняют из их числа незаконно, с точки зрения властей, попавших в их ряды хлопов. Этих «выписчиков» возвращают «к плугу» — в панские имения.

Украинец.

Украинка.
Связи Сечи с «волостью», то есть остальной Украиной, строго преследуют. К северу от Сечи, у начала порогов, летом 1635 года ставят на правом высоком берегу реки крепость Кодак. «Кодацкая фортеция», очень сильно укрепленная, должна была препятствовать связям между сечевиками и украинским посольством. Но тогда же, в августе, Иван Сулима, гетман нереестровых казаков, штурмует Кодак и захватывает его. И опять полякам помогает предательство: Сулима гибнет, и крепость переходит к врагу.
Через два годы снова восстали нереестровые. Возглавили их Павел Бут (Павлюк), Карп Скидан, Семен Быховец. Движение потопили в крови князья Потоцкие, Николай и Степан, тот же Лащ: сгоревшие села и хутора, виселицы вдоль дорог на многие версты отметили их кровавое торжество.
На следующий год польский сейм ввел «Ординацию Войска реестрового Запорожского», которое возглавили поставленные поляками комиссар, есаулы, полковники; выборность казацких старшин отменили, казаков лишили права своего суда. Реестровым, число которых устанавливалось в шесть тысяч человек, запретили поддерживать отношения с запорожцами-сечевиками, мещанами и прочими. Селиться, заводить собственность им разрешали только на южном пограничье, что сталкивало их с теми же запорожцами и другими «своевольниками».
В ответ запорожцы снова поднимают восстание. Его возглавляют Яцко Острянин, Карп Скидан и Дмитр Гуня. Они берут Кременчуг, Хорол и другие города, громят коронное войско Станислава Потоцкого и реестровых казаков Ильяша Караимовича. Летом 1638 года Иеремия Вишневецкий приводит новое большое войско. Идут ожесточенные кровопролитные бои. Острянин и часть повстанцев уходят на восток, в русский город Чугуев. Другая их часть остается в таборе под Жолнином во главе восставших становится Дмитр Гуня. Табор осаждают поляки. Карп Скидан, шедший на помощь, терпит поражение.
Гуня увел казаков из лагеря на берег Днепра, где они выстроили полевые укрепления. Враги не могли их взять, но голод заставил повстанцев сдаться. Рассвирепевшие паны залили кровью Украину. Но Гуня с частью запорожцев перебрался на Дон.
Реестровые признали Ординацию 1638 года. Нереестровые, хлопы, мещане не хотели подчиняться панскому ярму: многие уходили в Белогород, Севск, Путивль, Рыльск и другие русские города и уезды. Шли сотнями и тысячами, иные — в одиночку. Русские власти принимали их, давали жалованье, землю, хлеб, оружие, средства на обзаведение хозяйством. Места, где они селились, располагались по границе с Диким полем. Впоследствии они стали именоваться Слободской Украиной.
На следующий год после восстания Острянина, Скидана и Гуни польские власти построили новую крепость в Кодаке, втрое больше старой, разрушенной повстанцами. Станислав Конецпольский, коронный гетман, торжествовал: с его точки зрения, Кодак был неприступен. Мало тогда известный Чигиринский сотник Богдан Хмельницкий уверенно заметил: «Рукой сделанное рукой разрушается».
После подавления восстания 1638 года Украина десять лет не знала крупных движений против панов и шляхты, которые считали это время «золотым покоем». Но хлопы и мещане продолжали бежать на юг, к сечевикам и в другие места. Во многих селах горели панские усадьбы, а их хозяева становились жертвами классовой мести. Продолжали свою борьбу в Карпатах опришки. Так что полного «покоя» паны не получили. А в конце 40-х годов они испытали потрясение такой силы, что и те, кто остался в живых, и их потомки навсегда сохранили страшные воспоминания о вышедшей из берегов ненависти свох подневольных, силе их ударов и расправ со своими притеснителями.
Начало национально-освободительной воины. Богдан Хмельницкий
Читать дальше