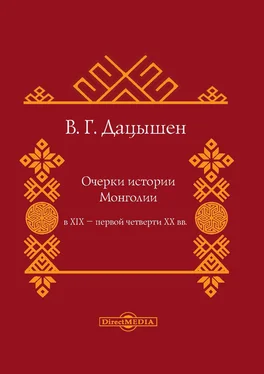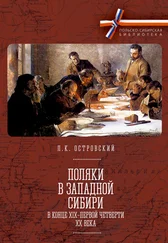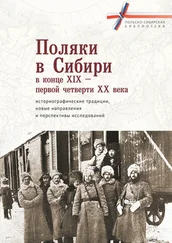В работе офицер штаба Иркутского военного округа в 1911 г. было зафиксировано: «В окрестностях Урги имеется пока только несколько мелких поселков, основанных китайцами-рабочими на золотых приисках… В конце минувшего 1910 года состоялся Высочайший указ, которым отменяется старый закон, воспрещавший китайцам селиться в пределах Сев. Монголии, и таким образом последняя отныне открыта для китайской колонизации; приняты меры для сближения китайцев с монголами» 113.
Китайская колонизация монгольских земель усилилась после окончания Русско-японской войны. Эти процессы стимулировались и направлялись властями Цинской империи. В обобщающей работе по истории Монголии утверждается: «В первом десятилетии ХХ в. цинское правительство, поддерживая колонизаторские устремления китайских ростовщиков… провело ряд экстренных мер по завершению полной колонизации Внешней Монголии. Особое бюро по переселенческим делам Монголии, учрежденное в 1906 г. в Пекине, провело в 1909 г. перепись населения, скота и земель Внешней Монголии, учло пахотные земли, наметило «план колонизации» и составило проект соглашения с монгольскими князьями. Соглашение и план подписали хошунные дзасаки Внешней Монголии: Зоригту-хан, Ноинт-вани др., специально вызванные для этого в Пекин. По соглашению, подписанному ими, в се земли, пригодные для земледелия, отчуждались в фонд цинского правительства, с условием уплаты 50% стоимости земли хошунным дзасакам. После утверждения «плана колонизации» торгово-ростовщические фирмы захватывали земли за долги, использовали их под пашни, огороды и пастбища…» 114. Исследователь С.Л. Кузьмин продолжает: «Выполняя эти решения, Саньдо учредил в Их-хурэ Бюро по колонизации халхаских земель китайцами» 115.
Таким образом, основным направлением «Новой политики» в Китае стало создание нового национального государства, формирование в империи новой нации буржуазного типа. Основу этой нации должны были составить китайцы-ханьцы, что создавало потенциальную угрозу для сохранения монгольского этноса. Кроме того, буржуазные реформы и меры по укреплению государства ухудшали социально-экономическое положение монгольского населения Цинской империи.
Китайская экспансия в Монголии в условиях общего кризиса Цинской империи вела к росту монголокитайских противоречий и конфликтов. В популярной российской литературе монголо-китайским отношениям в начале ХХ в. давалась такая характеристика. «Автономные права монгольских князей из года в год урезывались правительством Поднебесной империи; традиционные обычаи их, иной раз, попирались всевластными китайскими амбанями, налоги увеличивались, частная задолженность монгол перед китайскими купцами росла как гидра, пожирающая своими дикими процентами жизненные соки страны» 116.
Действительно, различные слои монгольского населения попали в экономическую зависимость от китайского торгово-ростовщического капитала. Систему так называемого «Китайского хошунного кредита» в начале ХХ в. описал британский ученый М.Ф. Прайс 117, показав всему миру механизмы закабаления монгольской элиты и простых аратов. Советские исследователи 1920-х гг. в характерной для эпохи манере писали: «Необычайная прибыльность торговли в долг побуждала китайцев стремиться всячески расширять свои кредитные операции. Лесть, обман, опаивание водкой, когда опьяневшим покупателям-монголам всучивалось большое количество совершенно ненужных им товаров, мелкое жульничество в виде обмеривания, обвешивания… все это было постоянным спутником китайской торговли в Монголии.... Наряду с торговлей почти все китайские фирмы в Монголии занимались отдачей денег в рост, а две из них Да-Шен-Ку и Тянь-И-Де, специализировавшиеся на ростовщичестве, сделались богатейшими банкирскими конторами… К 1911 году во Внешней Монголии только несколько хошунов не были в долгу к Да-Шен-Ку или Тянь-И-Де… Да-Шен-Ку ежегодно получала в виде процентов по долгам и выгоняла в Китай до 70000 лошадей и 500000 баранов. В среднем каждый хошун имел задолженность в 100000 лан. Задолженность отдельных хошунов достигала 400000 лан, что составляет более 540 лан на одно хозяйство. Общая задолженность хошунов Внешней Монголии Китаю составляла около 11000000 лан или 15000000 довоенных рублей» 118.
К концу первого десятилетия ХХ в. российские исследователи отметили: «По-видимому, Южной Монголии суждено постепенно превратиться в обыкновенную китайскую провинцию с общеимперским управлением. Уже теперь три восточных Сейма почти целиком вошли в состав провинций Чжилийской (Сеймы Чжосотуский и часть Чжу-удаского)… Колонизация китайскими поселенцами земель, входящих в состав названных Сеймов, идет вперед быстрыми шагами, и китайцы захватывают все большую и большую власть над бывшими прежде почти самостоятельными монгольскими Князьями и их подданными. В пунктах, куда уже успело проникнуть китайское влияние, но не произошло еще присоединения к одной из ближайших провинций, прежде всего учреждается должность Тун-пань, который не только берет в свои руки заведывание судом и сборами податей с населения Княжества, но даже получает право ревизии делопроизводства в канцелярии Правителя Княжества» 119.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу