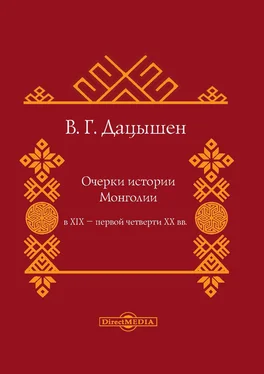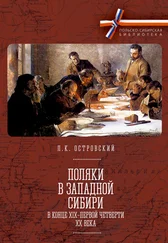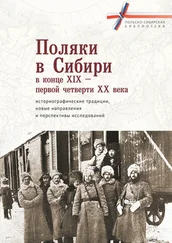В начале ХХ в. имели место попытки со стороны России поддержать монголов Хулуньбуира в противодействии китайской колонизации. Примером тому является «Доклад о мерах воспрепятствования китайской колонизации вдоль линии ж.д. и отношение к ней монголов» 106русского военного комиссара Цицикарской провинции от 22 октября 1902 г. Вообще, вопрос о поддержке монгольских князей против китайской колонизации был сложным и запутанным, в докладе дипломатического чиновника в Маньчжурии Г.А. Плансона от 2 октября 1903 г. отмечалось, что противодействовать заселению китайцами Харчинского княжества путем выдачи монголам ссуды «быть может не лишено смысла, но… сколько бы миллионов Россия не затратила на ссуды монголам, упомянутого движения остановить не удастся» 107. В конечном итоге, русским не удалось создать серьезных препятствий для китайской колонизации восточно-монгольских земель.
Уже в начале ХХ в. значительным было китайское присутствие и в Северной Монголии. Полковник В.Ф. Новицкий, исследовавший северные районы Халхи, писал о китайском земледелии: «Порядок пользования землей в Монголии определяется китайским Уложением 1845 года… Уложение, разнообразными и стеснительными узаконениями, всячески затрудняет приобретение чужестранцами земельных участков в Монголии, а также арендование таковых… несмотря на это, земледелие, преимущественно китайское, постепенно разрастается в Кентейских горах и в настоящее время во многих местах по течению рр. Иро, Баин-гола и Хаара-гола можно встретить китайские хутора, окруженные обширнейшими пастбищами. Эти китайские земледельцы, это – те колонисты, которые получили здесь земельные участки до 1845 года и за которыми их права на землю были закреплены упомянутым Уложением, но с тем, чтобы площадь этих земледельческих колоний не увеличивалась. Однако вследствие сильно развитого в Китае взяточничества, а также неудержимого стремления китайцев к земле, площадь китайских пашен постепенно расширяется» 108.
В самые отдаленные от Пекина районы Монголии китайская экспансия продвигалась отчасти посредством «военных поселений». Например, еще в конце XIX в. зеленознаменные солдаты, в число которых набирались проживавшие во внутренних районах Китая вольнонаемные ханьцы, были отправлены в Кобдо для занятия земледелием. Способствовало китайской колонизации монгольских земель и русское освоение приграничных районов Цинской империи. Тысячи рабочих были завезены в Баргу с началом строительства КВЖД. В меньших масштабах то же происходило и в Халхе. Военный исследователь В.Ф. Новицкий писал: «при впадении в р. Иро ручья Борал находятся золотые прииска, разрабатываемые русским акционерным обществом «Монголор». Прииска привлекают к себе значительное количество пришлого люда, как русского, так и китайского… русские и китайские рабочие живут совершенно обособленно, причем китайцы составляют и более трудолюбивый, и более постоянный элемент приискового населения» 109.
Большие китайские поселения в начале ХХ в. имелись при ставках князей и ханов, а также рядом с монастырями в Северной Монголии. Полковник В.Ф. Новицкий, посетивший ставку Цецен-хана в начале ХХ в., написал: «Несколько в стороне от хошунного управления имеется большой китайский квартал, составляющей торговую часть этого своеобразного степного города» 110. Активно китайские мастеровые привлекались к строительству монастырей в разных районах Монголии. Разведчик Усинского пограничного начальника в начале 1911 г. писал: «Перехожу к описанию жизни в Уланкоме. На степи, на правой стороне, по течению небольшой речушки раскинулась «хуря», и около нее китайские постройки, еще далее русские. В правильном четырехугольнике, обнесенном глиняной стеной до трех аршин высотой и с воротами на все четыре стороны, разбиты маленькие келейки монахов лам. В самом центре «хуре» – «Дуган» /кумирня/, по бокам кумирни возводятся в настоящее время китайскими мастерами две кумирни из кирпича… Мастера приглашены еще в прошлом году найоном хошуна Ван из Пекина» 111.
Картина китайского присутствия в Цинской столице Внешней Монголии накануне Синьхайской революции дана в донесении разведчика Усинского пограничного начальника «Поездка в Улясутай» в августе 1911 г. В документе говорилось: «Улясутай стоит среди больших гор… дома в городе китайские фанзы-мазанки, с бумажными окнами и потолками, ограда – частокол из лиственничного не толстого леса, улица узкая, торговцев около 50 фирм, из [которых] 10 крупные, остальные мелкие, около 20 мастерских, скорняки, портные, шубники, серебряники, кузнецы и столяры. Китайцы ведут крупную торговлю – большие запасы чая, черного и зеленого, талембы, табаку и проч. монголо-саетских товаров – указывают это, русских торговцев в Улясутае немного… торбаганьи шкурки в Россию идут, остальное шкурье в Китай, в настоящее время я видел у торговцев китайцев лисиц около 6 тысяч штук, но это говорят остатки, на самом деле их бывает много больше… из Китая идет чай, табак, талимба, мука пшеничная, рис, шелковые ткани, ханшин… Китайских товаров продается в Улясутае на несколько миллионов рублей, а русских едва ли и на один миллион… На запад от города, невдалеке от него видны поля и огороды, сеют овес, из овощей же капусту, земледелие развито очень слабо, да кажется и нельзя его развить – нет удобных мест для посева и кроме овса и ячменя едва ли какой хлеб дозреет – убьют ранние морозы» 112.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу