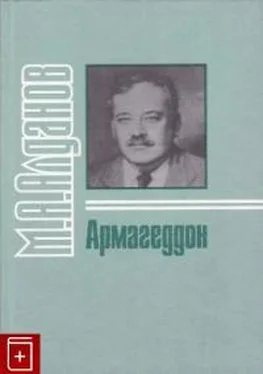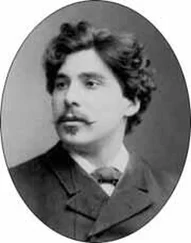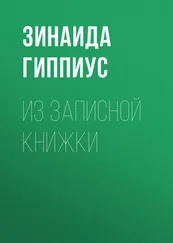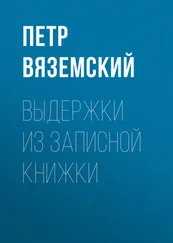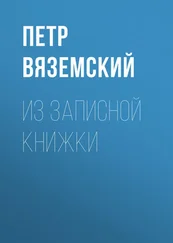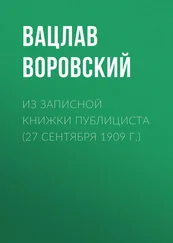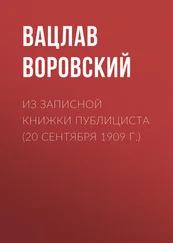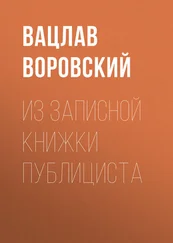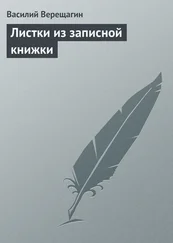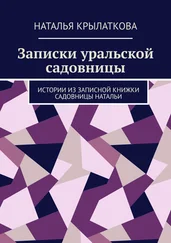Этому блестящему предсказанию одинаково чужды и социология, и политическая экономия. Психологический силлогизм Шиллера приблизительно таков; осуществление идей «Декларации прав человека и гражданина» предполагает высокий моральный уровень людей, призванных осуществлять эти права. Люди конца 18 века, и в частности вершители судеб Франции, весьма далеки от такого уровня. Следовательно, революция обречена на гибель. Любопытно, что почти в то же время точно такой же психологический силлогизм зародился в уме артиллерийского поручика Бонапарта, который, размышляя над правами и пороками французов (подлинные его слова), сделал практические выводы о бренности великой и нераздельной республики, весьма, как известно, пригодившиеся ему в жизни.
В сущности, этот шиллеро-бонапартовский силлогизм теперь вовсе не представляется убедительным. Не так уж ведь далеки были от земли идеи «Декларации прав», с их гениальной подстановкой удобного «равенства всем перед законом» наместо неудобного равенства просто. Осуществили же эту «Декларацию» — по крайней мере отчасти — праведники XIX века. Как мало, в сущности, было нужно для осуществления «прав человека» и как много пролито было по этому случаю крови, не говоря о чернилах...
Буржуазия конца 18-го века в культурном отношении стояла выше дворянства; однако, чтоб вырвать у последнего монополию власти и привилегий, понадобился добрый десяток больших, малых и крошечных революций. Современный пролетариат по своему культурному уровню неизмеримо ниже буржуазии, а задачу себе он ставит неизмеримо труднее: смешно даже сопоставлять ничтожные, казалось, препятствия, стоявшие на пути «Декларации прав человека», с той безграничной хозяйственной и психологической инерцией, на которую неизбежно наткнется в переживаемое нами время попытка осуществления «Декларации прав трудящихся».
Экономическое наследие войны ужасно. Но моральное много хуже.
Что, в самом деле, сказал бы Шиллер о той школе, через которую ныне прошло человечество перед предполагаемым вступлением в новую эру? Народы, так блистательно срезавшиеся на экзамене умственной зрелости 1914 г., развращены войною глубоко и надолго. Европа изолгалась и одичала. Цвет поколения провел четыре года в кровавой праздности траншей, утратил привычку к мирному производительному труду, свыкся со всеми формами самых отвратительных преступлений. Зверь разбужен и вышел на волю.
От поколения, зараженного ненавистью и сифилисом, родятся ли новые, лучшие люди?
Я слышал когда-то, как Жорес воскликнул в одну из мрачных своих минут: «Le socialisme héritera d’un monde trop perverti» — «Социализм унаследует чересчур развращенный мир...»
А все-таки, скорее всего , унаследует. Это наибольшая вероятность .
— С социализмом кончено навеки, — говорят перепуганные люди. Говорят обыкновенно с радостью: кого этот жупел не обидел? Герцен обессмертил коллежскую ассесоршу, которая всю жизнь не могла простить Наполеону преждевременную смерть своей коровы, скончавшейся в 1812 г. Теперь коллежская ассесорша, потеряв не одну корову, во всем винит социализм, отождествляя его с пугачевщиной, и ждет не дождется спасителя. Пугачев не спас ее от Гинденбурга; она надеется, что Гинденбург спасет от Пугачева...
Такая возможность не исключается, но поручиться даже и в этом никак нельзя.
Социализм не виноват; ассесорша тоже не виновата; тем не менее потерпеть придется обоим. Мы живем в историческую эпоху, когда стала чрезвычайно строгой старая взяточница Немезида и сделалась небывало грозной расплата не только за свои, но и за чужие грехи...
Во всяком случае, если кончено с культурным социализмом, то кончено и с самой культурой. Если не кончено с культурой, то будет и социализм, как он всегда был. Проблема его оправдания тесно связана с вопросом о том, быть ли или не быть современной цивилизации.
Известная судьба гегелевского изречения: «Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig» — «все действительное разумно; и все разумное действительно». Когда-то оно возбуждало бури негодования и восторгов. Потом его растолковали: Гегель не ставил будто бы знака равенства между разумом и действительностью вообще. Он имел в виду истинно-действительное . И уже Эдуард Ганс, выпустивший посмертное издание «Философии права», доказывал, что в формуле Гегеля не было ничего реакционного.
Об этом можно, разумеется, спорить. Вот что говорит Гегель в знаменитом предисловии к «Jrundlinien der Philosophie des Rechts»: «Настоящая работа, поскольку она содержит учение о государстве, должна быть только попыткой понять и представить государство как нечто разумное в себе (als ein in sich Vernünftiges). В качестве философского произведения она всего дальше от конструирования государства, — каким последнее быть должно » (einen Staat, wie er sein soll {129} 129 Курсив Гегеля.
). Стоит прочесть хотя бы девятнадцать параграфов (§§231—249), посвященных Гегелем полиции, и двенадцать (§§275—286), относящихся к власти монарха, чтобы усомниться в верности слов Эдуарда Ганса. Или же пришлось бы затеять спор о том, что такое полиция и die fürstliche Jewalt: просто ли действительное или истинно-действительное? Конечно, в свое время велись и такие философские споры; ибо, как говорит, по другому поводу, не без гордости тот же Эдуард Ганс: «Was hat der deutsche Jeist nicht alles begründet oder zu begründen versucht?» {130} 130 «Чего только не обосновывал или не пытался обосновать немецкий дух?» (нем.)
Читать дальше