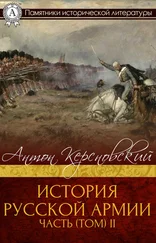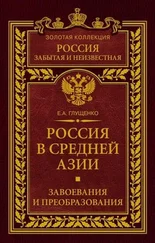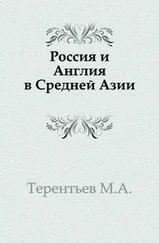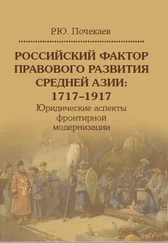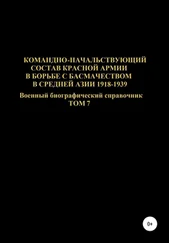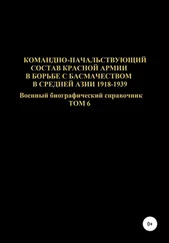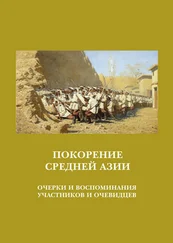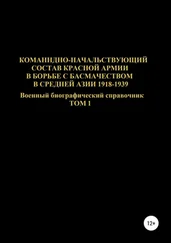Другая часть бывших джадидов, не понявшая и не принявшая Октября, совсем отошла от революции.
Так, к моменту сентябрьской революции окончательно оформилось вызванное Октябрем и его последствиями расслоение джадидской организации, генераль- /178/ ное размежевание ее на две части: первую, вошедшую в коммунистическую партию Бухары, слившую свои судьбы с судьбами русской Октябрьской революции, и вторую часть джадидов, оставшуюся на дооктябрьских, а отчасти дофевральских позициях, с неизжитой националистической идеологией.
Эти последние, старые джадиды, остались неизменными, и жизнь, в корне изменившаяся, прошла мимо них.
Они остались вне жизни, ибо ничему не научились из уроков революции и ничего не позабыли из дореволюционного арсенала джадидских идей.
Они и по сей день не желают замечать того мощного революционного движения, которое охватило все страны мира, в том числе и Среднюю Азию.
Великого сдвига, происшедшего в умах трудящихся масс, они не видят. Они все еще считают нашу сегодняшнюю и ежедневную борьбу борьбой за сытую жизнь, за культуру, а социалистическое строительство чем-то временным, несерьезным и чуждым духу народов Средней Азии.
Они по-прежнему мечтают о самостоятельных буржуазных, конституционных государствах, территориально совпадающих с прежними Бухарой, Хивой, Туркестаном, быть может, несоветских.
Старые мечты об объединении народов Средней Азии, но не под знаменем коммунизма, а вернее, пантюркизма или даже панисламизма, все еще занимают их.
Даже гром октябрьских пушек в Ленинграде, Москве и Ташкенте не разбудил этой части джадидов, не заставил их очнуться, призадуматься и по-новому переоценить свои идеалы.
Они своим непониманием всего послереволюционного периода, неприятием всего того нового, что купил ценою тяжких страданий в жестокой революционной борьбе их народ, сами выбросили себя из общественной жизни.
Многих из них не коснулось даже влияние младобухарского движения, которое после Февральской революции, манифестации и мартовских событий в Бухаре определенно перешло на платформу республики, рево- /179/ люционного действия и теснейшего сотрудничества с русской революцией.
Они проморгали даже февраль.
В этой эволюции джадидизма джадиды других частей Туркестана не представляют исключения. Несмотря на разницу в путях развития по сравнению с джадидами бухарскими, о которой говорилось в начале этой работы, туркестанские джадиды пошли по тому же пути расслоения, что и джадиды Бухары, хотя их социальный облик за время революции изменился очень мало.
Русская революция не могла пройти и не прошла для них бесследно.
Они еще в большей мере, чем джадиды Бухары, не сумели и не могли сделаться массовой организацией рабочих и крестьянских масс.
Большая часть туркестанских джадидов не поняла революции и осталась при своей прежней национально-буржуазной идеологии, меньшая - наиболее передовые представители интеллигенции и трудящихся - примкнула к коммунизму.
Разница с бухарскими джадидами здесь только в том, что туркестанские джадиды, непосредственно в революции не участвовавшие и эмирским репрессиям не подвергавшиеся, в большей, чем бухарские джадиды, чистоте сохранили свой первоначальный облик.
Но довольно об этом, перейдем к дальнейшему изложению событий. /180/
ЧАРДЖУЙСКИЙ СЪЕЗД И ПАДЕНИЕ ЭМИРА
Наконец наступил долгожданный час непосредственного революционного действия, наступили величайшие дни в жизни младобухарской партии и трудового народа Бухары: наступил момент, когда благоприятно сложившиеся обстоятельства позволили во второй раз поставить практически вопрос о низвержении эмира вооруженной рукой, с помощью братского пролетариата России и его Красной Армии.
В Чарджуе собрался съезд младобухарцев коммунистов 88 [96], на котором, кроме других вопросов, был поставлен вопрос об объединении обеих младобухарских групп, согласно точному смыслу принятого сове- /180/ щанием Туркбюро ЦК РКП(б) постановления, а также вопрос о вооруженной борьбе с эмиратом.
Чарджуй, как место съезда, был выбран неслучайно. Дело в том, что Чарджуй, будучи рабочим районом по линии железной дороги, был оппозиционно настроен к эмирскому правительству, как и весь Чарджуйский район, где малоземельное, бедное крестьянство было совершенно истощено огромными затратами на орошение и непосильными эмирскими налогами; к тому же значительная часть чарджуйского крестьянства - по национальности туркмены - была раздражена притеснениями эмирской администрации, в большинстве состоявшей из узбеков, хотя, вообще говоря, количество туркмен в эмирской администрации было очень значительно, так как эмир систематически проводил политику привлечения к своему управлению и наделения всякими чинами и доходами с земель "танхо" и т.д. всех сколько-нибудь влиятельных родовых и племенных вождей. В начале нашей работы мы уже говорили о подобном явлении, процветавшем в Восточной Бухаре, оно было повсеместно.
Читать дальше