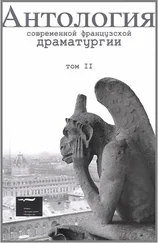Она была принята в свете с уважением и вниманием, внушаемым ее добродетелями; она вернулась домой взволнованная и признательная; через несколько дней она опять отправилась ко двору, а третий раз мы были вместе. Я наслаждалась в глубине души почтением, которое ей оказывали, но бледность ее лица продолжала меня беспокоить. За обедом она не спускала с меня глаз и посылала то, что ей казалось луч-. шим.
Вдруг она заболела глазами, что ее удержало на некоторое время дома. В день Вознесения, седьмого мая, она была в церкви, но почувствовала себя так плохо, что, возвратясь домой, легла в постель; Я была поражена ее плохим видом, но она разуверила меня, говоря, что это пустяки и пройдет. Она, как всегда, вышла к обеду и села за стол, но не могла ничего есть;
Я делала вид, что не замечаю этого, потому что видела, что она желала скрыть это от меня, брала себе разные кушанья и потом осторожно отставляла тарелку. После ужина она пришла ко мне в уборную со старшей дочерью; я заплела ей косы, как всегда, и собиралась ложиться в постель. Уходя, она поцеловала меня. У нее был очень нездоровый вид. Потом она сказала моей старшей дочери, что она почувствовала себя очень плохо сегодня за обедней, и прибавила, что день и место навели ее на мысль, что это было предупреждение.
В продолжение некоторого времени она продолжала бывать вместе с нами в помещении моего мужа. Семнадцатого, в Троицын день, она почувствовала себя хуже; но вместо того чтобы лечь в постель, она пожелала отправиться на обед ко двору, чтобы отвезти Use на прогулку в саду. Она кашляла по временам и чувствовала себя плохо, но с такою силою боролась с болезнью, что, несмотря на нашу тревогу, по временам ей удавалось успокоить нас.
Ее бледность и слабость заметно увеличивались; мое сердце тосковало; я не смела думать о будущем и смертельно страдала. Как только она входила к мужу, она опускалась в большое кресло, не имея сил больше двигаться.
Двадцать седьмого мая, когда она сидел, а посреди нас, холодный пот выступил у нее на лбу; она оперлась головою на руки, почти не имея сил больше сдерживаться. В комнате из посторонних была г-жа Томра, очень преданная ей, и м-ль де Бюисси, превосходная особа, из свиты герцогини Виртембергской. Я умоляла г-жу де Тарант лечь в постель; она согласилась на это, не будучи в состоянии сидеть. Послали за доктором, который на следующий же день убедился, насколько велика опасность. Мы больше не отходили от нее.
Так как все почти были уверены, что у нее местная болезнь — она часто страдала покалыванием в боку, — то решили поставить ей на это место мушку. Когда же проявились другие симптомы болезни, то другую поставили между плеч. Дрожащими руками меняла я препараты; мне крайне нездоровилось, но я никогда не позволила бы, чтобы другая рука, кроме моей, коснулась ее. Я сама умывала ее, натирала ей бок мазью с меркурием. Ее нежный взор, устремленный на меня, проникал до глубины моей души.
Беспримерное осложнение болезни развивалось с каждым днем. Ее страдания были выше всего, что только можно себе представить; но ее удивительное терпение, казалось, удваивалось, и, когда я говорила ей:
— Боже мой, как вы должны страдать! — она отвечала:
— Когда за человеком так ухаживают, как за мной, то он не имеет права жаловаться.
Описание, сделанное моей дочерью после смерти г-жи де Тарант и которое я рассчитываю прибавить к своим Воспоминаниям, содержит детали этой христианской и достойной восхищения смерти. Я буду говорить только о том, что я испытала во время этого ужасного несчастья, доказавшего мне, что в глубине нас находятся неведомые силы, в обыкновенное время заглушаемые нашей слабостью. Постоянная боязнь потерять то, что нам дорого, не позволяет нам видеть нашу силу. Желают уверить себя, что способны на самые прекрасные поступки, но мысль: «Я переживу того, кого я люблю» не входит в расчеты сердца и ума, пока Бог не поразит смертью дорогого нам человека, явит нам силу нашей души, наполняя ее Собой.
Г-жа де Тарант не прекращала умственную молитву, и, когда призывала духовника, чтобы он помог ей лучше молиться, все, кто находился в комнате, падали на колени и присоединялись к ней. Несмотря на боли, она, видимо, бывала тронута этим единением. Дружба до последней минуты обитала в ее сердце, а ее душа вся принадлежала Богу.
Когда ее перенесли наверх, в полночь я приказала моей старшей дочери уйти и осталарь с г-жой де Тарант до того момента, пока горничная не пришла сменить меня в два или три часа ночи. Сидя на табурете в ногах кровати, я была окружена тишиной, прерываемой тяжелым и трудным дыханием моей подруги. Ночник, поставленный за ширмами, освещал это святилище религии и страданий. Я пристально смотрела на г-жу де Тарант и была не в силах оторвать глаз; я была уверена, что на следующий день ее не будет в живых, и ни слезы, ни рыдания, готовые разразиться, не осмелились вырваться у меня. Ее святая покорность, несравнимое благочестие делали меня ничтожной в своих глазах. Я была несчастна и не осмелилась просить одной минуты облегчения для моей скорби. Ее душа привлекала мою к цели, к которой она стремилась.
Читать дальше