Вигель, в своих воспоминаниях, т. II, с. 36, говорил, что прелестная княгиня Тюфякина сделалась жертвою несогласия климата русского с тогдашнею модною одеждой, в классическом вкусе, которую он описывает следующим образом: «На молодых женщинах и девицах все было так чисто, просто и свежо; собранные в виде диадемы волосы так украшали их молодое чело; не страшась ужаса зимы, они были в полупрозрачных платьях, кои плотно обхватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы: по истине казалось, что легкокрылые Психеи порхали на паркете. Но каково же было пожилым и дородным женщинам?» Князь Петр Иванович Тюфякин род. в 1769 г., был камергером и управлял некоторое время петербургским театром; ум. в Париже в 1845 г.; был женат на Екатерине Осиповне Хорват, родной племяннице кн. Пл. Зубова. Г-жа Лебрен несколько ошибается в хронологических указаниях: княгиня Тюфякина род. 1779 г., а умерла 1802, стало быть, не 17, а 25 лет (Р. Родосл. книга. Спб. 1873, с. 12). Упомянутый портрет княгини находился впоследствии у князя П. И. в Париже.
Князь Александр Борисович, род. 1725 г., ум. 1818 г., был одним из любимцев императора Павла, но с конца 1798 г. по февраль 1801 г. находился в опале, почему и жил в Москве. Он любил роскошь и жил эпикурейцем (см. Воспоминания Вигеля, т. I, с. 204).
Граф Илья Андреевич, род. 1756 г., умер 1815 г., брат знаменитого канцлера, богатства которого наследовал. В рассказах своих о Безбородке г-жа Лебрен отчасти смешивает обоих братьев.
Дающих пристанище ворам и заведомо принимающих краденое, законы наказывают равно с преступником, в справедливом смысле: «ежели б некуда было сбывать краденого, на что воровать?» Обратите сие правило на злочинцев, кишащих теперь в обществах; авось и она подумав; «к чему злочинствовать?» уймутся хоть трохи.
Он действительно так поступил.
С большими расходами велела Екатерина выстроить около Царского Села огромный город Софию; дома в нем уже разваливаются, но в них никогда не жили. Если такова участь города, выстроенного у нее на глазах, какова же должна быть участь тех городов, которые она закладывала в отдаленных, необитаемых местах. Самый же сметной из существующих городов – несомненно основанная Павлом Гатчина. Такие основатели считают людей за аистов, которых подманивают, положив колесо на крышу или колокольню. Начиная с великолепного Потсдама и кончая смешной Гатчиной, все эти принудительные построения доказывают только, что истинные основатели городов – культура, торговля и свобода; а деспоты их разрушители; они умеют строить и населять одни тюрьмы и казармы.
Она была родная тетка известного Якубовича.
Любимый Польский был тогда сочинения, кажется, Козловского; он был известен под названием: «славься сим Екатерина», по первым словам, на кои он был положен. С какою-то восторженною гордостью ходили тогда Русские под гремящие его звуки.
Известно, что вдоль Кремлевской стены, на Красной площади, шел, до конца XVIII в., ров, и через него вели в Кремлевские ворота мосты. Спасский мост был замечателен между прочим и тем, что близь него (у Спаса на рву) производилась мелочная торговля книгами и произведениями лубочной печати.
Не следует упускать из виду, что вышеприведенные письма писаны Саблуковым наскоро, к своему отцу, а потому некоторая небрежность их естественно объясняется этим обстоятельством.
Т. е. отец А. А. Саблукова.
Императрица, кажется, прежде предположила сие, ибо обряд управления комиссии и наказ генерал-прокурору и маршалу сочинен был Александром Ильичем.
Во время отсутствия императрицы из С.-Петербурга в 1780 году, некоторые из сановников вновь согласились поднести ей титулы Великой и Матери Отечества и соорудить врата для ее въезда. Екатерина вновь отклонила это поднесение и даже в письме своем на имя главнокомандующего в столице фельдмаршала А. М. Голицына выразила свое неудовольствие «за упражненение в подобных выдумках».
Императрица, намереваясь возвратиться из Москвы в Санкт-Петербург, закрыла собрание депутатов 14-го декабря 1767 года, и прибыв в Петербург 28 января 1768 года, открыла собрание с приличным торжеством февраля 18.
Полковник был полным хозяином своего полка: он заведывал всеми ротами, входил во все мелочи, вел хозяйство. Русская армия живет всегда припеваючи в тех странах, где находится, будь то покоренная, дружеская или вражеская страна – это безразлично: полковники кладут почти целиком в карман суммы, предназначенные для ее содержания. Они пускают лошадей в луга, а солдат ставят на постой к крестьянам. Их жалованье равняется семи-восьмистам рублям, а их доход – пятнадцати-двадцати тысячам. Императрица раз так ответила чиновнику, ходатайствовавшему перед ней за одного бедного офицера: Он сам виноват, что беден: ведь он долго командовал полком. Таким образом, воровство было разрешено, а честность считалась глупостью.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
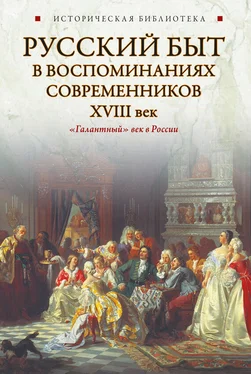






![Коллектив авторов Биографии и мемуары - Ковалиная книга. Вспоминая Юрия Коваля [второе издание, исправленное и дополненное]](/books/430445/kollektiv-avtorov-biografii-i-memuary-kovalinaya-kn-thumb.webp)




