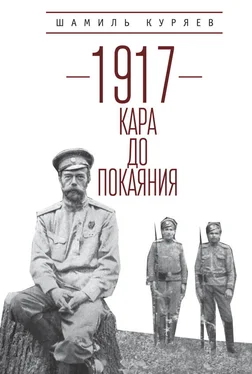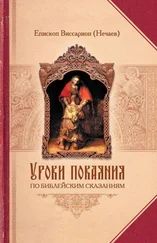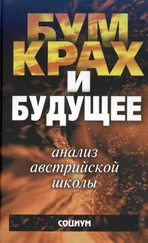В этот момент и заболевает Николай Второй. К концу октября выясняется, что это не пустяковая простуда, а брюшной тиф. Болезнь протекает очень тяжело: на протяжении почти целого месяца (с конца октября до двадцатых чисел ноября) не исключалась вероятность летального исхода.
Именно сочетание этих факторов – ожидание рождения наследника в царской семье и опасение возможной смерти императора – породило всеобщее брожение умов. Проблема была в том, что законы Российской Империи не предусматривали такой ситуации – когда в царской семье ожидают рождения сына (то есть законнейшего наследника правящего императора по прямой нисходящей линии), но император умирает, не дожив до этого радостного события (а следовательно, престол должен перейти ближайшему мужскому представителю династии). Положение складывалось более чем щекотливое. Что особенно важно – никак не оговорённое законами о престолонаследии!
То, что немедленная передача престола (в случае смерти императора) его младшему брату Михаилу Александровичу была бы не лучшим выходом, понимали многие. В частности, об этом писал обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев: «Императрица беременна и может родить сына, который будет прямым наследником. В этих обстоятельствах великий князь Михаил Александрович не может принять на себя державу. Как тут быть, когда нет никакого государственного акта на этот случай?» А уж более консервативного и осторожного «охранителя порядка», нежели Константин Петрович Победоносцев, в России нельзя было отыскать!
При таких непростых обстоятельствах в Крыму состоялось совещание с участием представителей правительства и Дома Романовых, на котором обсуждался вопрос о том, как быть, в случае если болезнь императора примет трагический оборот. Если верить Витте, именно он в ходе этого совещания выступил наиболее убеждённым сторонником соблюдения буквы закона (заметим: закона, не предусмотревшего такой уникальный случай!) – то есть настаивал на необходимости незамедлительной передачи престола (в случае смерти императора) великому князю Михаилу Александровичу.
По воспоминаниям Витте, военного министра Куропаткина на том совещании не было. Через несколько дней Куропаткин заехал к Витте позавтракать и задал вопрос о проходившем без него совещании. При этом (если верить мемуарам Витте) между ними произошла следующая сценка: «Он говорит: «Я не мог приехать», – а затем встал в трагическую позу и, ударяя себя в грудь, сказал мне очень громким голосом:
– Я свою Императрицу в обиду не дам.
Зная Алексея Николаевича за комедианта балаганных трупп, я этому выражению его не придал никакого значения и сказал:
– Почему, Алексей Николаевич, Вы принимаете на себя привилегию не давать в обиду никому – Императрицу? Это право принадлежит всем, а в том числе и мне».
Примерно то же самое, что и в посмертно изданных мемуарах, Витте рассказывал при жизни – тогда он обращённые к нему слова Куропаткина передавал так: «Во всяком случае, Александру Фёдоровну в обиду никогда не дам».
Вообще-то Витте известен как… хм… крайне недобросовестный мемуарист. Но даже если данный разговор имел место в действительности, то это ничего не значит. Спрашивается, отчего бы Куропаткину не разделять мнение «законника» Победоносцева? – так тогда думали очень многие!
При этом сам же Витте заявляет, что не придал словам Куропаткина никакого значения. Но то – Витте (источник информации). Что с него возьмёшь? – «что вижу, о том пою»… Другое дело – Широкорад (мудрый аналитик). Он – зорче смотрит, дальше видит: «Ряд министров и генералов во главе с военным министром Куропаткиным (будущим «маньчжурским героем») начал подготовку к государственному перевороту». И не больше, и не меньше!
В действиях «главной заговорщицы», Александры Фёдоровны, тоже не удалось накопать ничего криминального – кроме того, что вела она себя в той ситуации не очень умно (о чём уже говорилось выше). Поэтому Широкораду остаётся только злобно комментировать её переписку со свекровью: «Присутствие в Ливадии императрицы-матери и свидетелей-иностранцев не входило в планы Алике».
От этого – мороз по коже! Что ж это за злодейские «планы»? – отравить больного мужа?! Надо полагать, именно потому она и была против приезда «лучших европейских врачей»? А о том, что в Ливадии уже 26 октября находилась сестра Николая, великая княгиня Ксения Александровна, Широкорад скромно умалчивает… Вообще, «свидетелей» в Ливадии было более чем достаточно!
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу