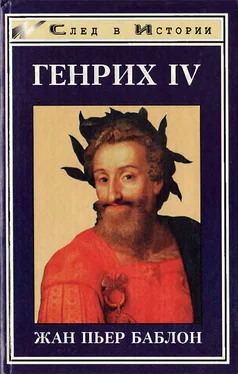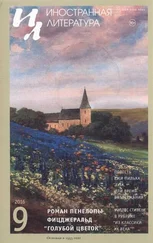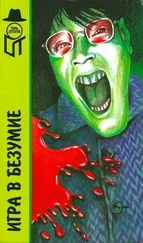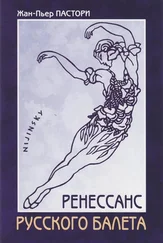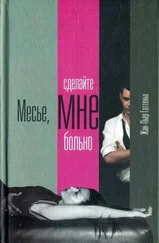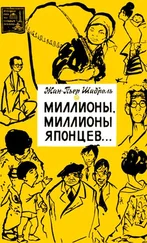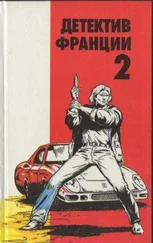Во славу короля были использованы все литературные жанры. Например, подражание плутарховским сравнительным жизнеописаниям. Сюлли опубликовал еще в 1609 г. «Краткое описание жизни Генриха-Августа IV, победоносного и непобедимого короля Франции и Наварры». В 1615 г. он выпустил «Параллельное жизнеописания Цезаря и Генриха Великого» в стихах. Те же параллельные биографии вышли из-под пера Антуана де Бандоля в 1609 г. и Андре Дюшена в 1610 г. Театр тоже внес свою лепту. Клод Бийар написал «Трагедию о Генрихе Великом», нечто вроде античной трагедии с хором, где жизнь короля подчинена велениям Рока. Чтобы облагородить посмертный образ короля, автор переносит злодеяние Равальяка на время, когда Генрих отправляется в крестовый поход против турок.
Потом появились бесчисленные биографии: Жюля Палеюса в 1614 г., Батиста Леграна в 1633 г., Пьера Маттье в 1620 г. и др. Золотой век Генриха был уже описан Леграном в «Исторической декаде»: «Крестьянин спокойно ел свой хлеб и без страха впрягал в свою телегу быков, ягнята вольготно резвились на лугах…»
А вот метр Гильом в 1612 г. отправляется в царство мертвых, чтобы отыскать там короля. Через два года тень Генриха IV спускается на землю, чтобы дать Людовику XIII советы, необходимые для справедливого царствования.
В этих восхвалениях все допустимо. Благословенное время Генриха IV используется поочередно поборниками Фронды против Мазарини, а роялистами — против Фронды. Генрих всегда предстает как творец свободы французов и как монарх, прислушивающийся к Парламенту. Слава Генриха немного померкла при его внуке Людовике XIV, для которого он был только предком, но никак не законоучителем и образцом для подражания. Однако биография, заказанная в 1661 г. Ардуену де Перефиксу и предназначенная для обучения молодых принцев, имела шумный успех. Это был первый «дайджест» жизни короля, который будет переиздаваться вплоть до XIX века.
Но апогеем культа Генриха IV стал XVIII век. Это было время «доброго короля» Генриха, время безудержного прославления отца народа, благодетеля, жизнелюба, борца за веротерпимость, философа, волокиты и весельчака. Регент кичился тем, что похож на Беарнца внешностью, распутством и, конечно же, мудростью. Под впечатлением рассказов де Комартена, который не уставал восхвалять доброго короля, Вольтер решил написать «Генриаду» (1723), эпопею на национальную тему. Произведение имело огромный успех и вдохновило художников, использовавших его сюжеты в исторической живописи вплоть до Революции. Политика великого короля, направленная на развитие французских ремесел, вызывала ностальгию у экономистов Просвещения, эпоха «возвращения к природе» признавала в нем своего предтечу. Театр ставил эпизоды из «Генриады». Огромный успех пьесы Колле «Охота Генриха IV» подвигнул других драматургов на развитие той же тематики.
В последние годы Старого Режима несравненный Беарнец использовался оппозицией: у его статуи на Новом мосту сжигали чучела непопулярных министров. В 1788–1789 гг. культ Генриха IV возродился как реакция против версальской монархии, и 6 октября Байи встретил Людовика XVI следующими словами: «Генрих IV завоевал свой народ, теперь народ завоевал своего короля». Последнее надгробное слово было произнесено 21 мая 1792 г. в Ла Флеше. Падение монархического режима повлекло за собой и падение легендарного короля. Статуи были сброшены с постаментов, сердце сожжено, тело осквернено, как когда-то Жанна д'Альбре поступила с останками родителей своего мужа.
Но остракизм длился всего несколько месяцев. Бонапарт, большой почитатель национальной славы, восстановил стелу в Иври, и историографы снова принялись за работу. Возвращение Бурбонов придало новую актуальность культу Генриха IV. Въезд Людовика XVIII в столицу сравнивался с въездом Беарнца, и Новый мост занял привилегированное положение в церемониях 4 мая 1814 г. Изображение короля украшало орден Почетного Легиона с 1814-го по 1848-й. В 1818 г. Генриху IV воздвигли новую конную статую вместо той, которая была расплавлена во время Революции. Вторая конная статуя была установлена у ворот Ратуши. Все художники романтической школы состязались в изображении образа народного короля: Жерар, Энгр, Руже и другие.
Искажающим тенденциям политики история стремится противопоставить более беспристрастный взгляд. Многие французские историки — Пуазон и Мишле, Аното и Робике, Вессьер и Казо — искали истину, которую не так-то легко найти. Сын Жанны д'Альбре трудно приноравливается к примитивным школьным учебникам и не поддается любым попыткам подогнать его под какую-нибудь тривиальную рубрику.
Читать дальше