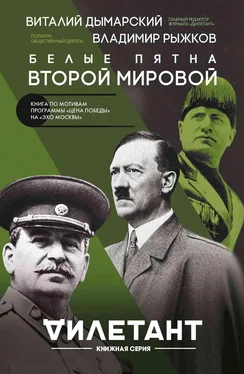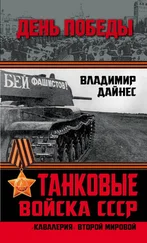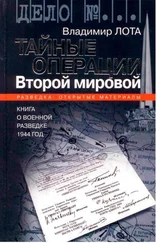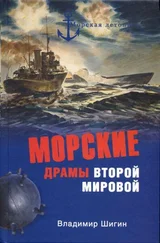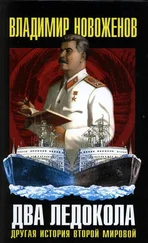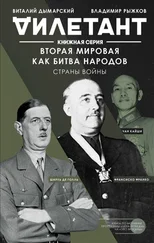Репортаж Генри Кэссиди из Сочи о том, как мирная жизнь вдруг стала военной, сразу был размещен на первой полосе The New York Times. Два официальных ответа Сталина также привлекли внимание, так как это было важно политически – советский вождь не отвечал даже на официальные запросы, а тут он выбрал для ответа какого-то корреспондента и прокомментировал и открытие второго фронта, и начало операции в Африке, и то значение, которое оно имело, говорил о том, чем еще можно помочь СССР в сложившейся обстановке, то есть давал конкретную информацию для анализа иностранным дипломатам.
Журналисты стали непосредственными свидетелями трагедии нашего народа: они видели огромные жертвы, ужасы оккупации, уничтожение евреев. Один из них говорил, что вроде бы привык к жестокостям на войне, но, побывав в Харькове, Майданеке, Киеве, понял, что это невозможно ни представить, ни описать: «Ненависть советских людей не выдуманная, мы даже не имеем права ставить себя рядом с ними, потому что мы этого никогда не поймем» .
В сентябре 1941 года, во время наступления под Ельней, иностранные корреспонденты, которых везли на фронт, услышали грохот. Генри Кэссиди тогда написал: «Безусловно, это был радостный звук, этот грохот больших орудий. Но не из-за садистской мысли, что это оружие убивает людей, а из-за утешающего чувства, что эти пушки убивают немцев, которые иначе бы могли убить меня в Москве, мою жену и дочь Констанс в Дедхэме в штате Массачусетс, мою мать, отца и брата в Вествуде, Массачусетс, и мою сестру в Чикаго. И было радостно сознавать, что эти орудия были русскими и что они не только сдерживали врага, что в тот момент было уже достижением, но и заставляли его поворачивать назад и быть в растерянности от того, что происходило на фронте».
15. Государственный комитет обороны (ГКО)
Андрей Сорокин, кандидат исторических наук, директор Российского государственного архива социально-политической истории (РГАСПИ)
Задача выстоять и победить в войне с фашистской Германией стояла не только перед солдатами, офицерами и тружениками тыла, но и перед людьми, принимающими активное участие в организации и управлении жизнью страны и ее граждан. К достижению Победы приложили усилия все.
Высшим органом управления страной был Президиум Верховного Совета СССР, который возглавлял в тот период Михаил Иванович Калинин. С точки зрения советской Конституции, Советы – высшая форма народовластия, которой номинально принадлежала вся власть в стране. При этом с момента формального возникновения Политбюро в 1919 году подавляющее большинство постановлений этой инстанции заканчивалось пунктом, который гласил буквально следующее: «утвердить в советском порядке». То есть центр принятия решений находился в Политбюро, после которого все оформлялось в Верховном Совете.
В мае 1941 года Совет народных комиссаров, как назывался тогда кабинет министров, возглавил Иосиф Сталин, который к тому времени много лет являлся секретарем Центрального комитета ВКП (б). Таким образом, Совет народных комиссаров выполнял распорядительные функции, которые в основном вменялись ему по воле Политбюро – которое обсуждало, вотировало, принимало решения по широчайшему спектру вопросов, которые к политическим отнести невозможно. Такова была структура власти, абсолютно централизованная, однако, как выяснилось, это еще не предел.
В первый период войны началась формальная концентрация властных полномочий в одних руках. Закончился этот процесс сосредоточением всех высших постов в распоряжении Сталина: он стал наркомом обороны, возглавил Государственный комитет обороны (высший чрезвычайный орган управления страной), а потом стал и руководителем Ставки Верховного главнокомандования – то есть главнокомандующим. Единственный высший пост, который он не занимал, – пост председателя Президиума Верховного Совета, который остался за Калининым. Но он, как мы помним, не мог принимать серьезные решения без согласования с диктатором.
Процесс формирования властной пирамиды занял определенное время, происходил достаточно хаотично и сказался на готовности Советского Союза к войне и результатах начального ее периода.
В документах высших органов управления – организационно-инструкторского отдела ЦК, который собирал отчеты от секретарей обкомов, городских и районных комитетов о проделанной работе за первый период войны, – проявляется очевидная растерянность и непонимание со стороны низового руководства, что именно они должны делать в этой ситуации. Первое, что они предприняли, – организовали совещания в прифронтовой зоне. В целом ряде случаев собрания проходили в тот момент, когда враг уже вступил на окраину города. Вероятно, такая неуверенность в действиях подчиненных Сталина, их нежелание брать ситуацию в свои руки объяснялись жесткими санкциями за любой проступок, но в первую очередь отсутствием конкретных инструкций на случай возникновения подобной ситуации. Это значительно замедляло реагирование на возникшие проблемы.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу