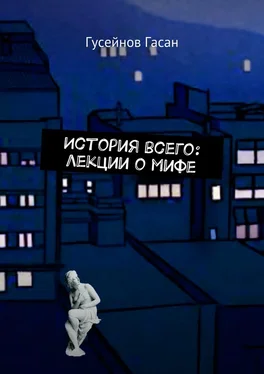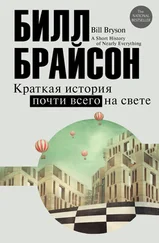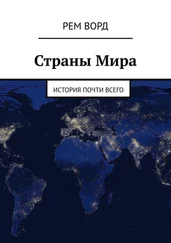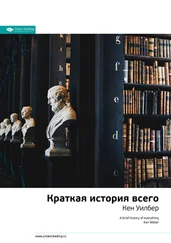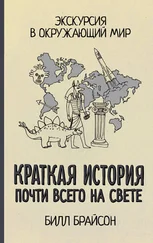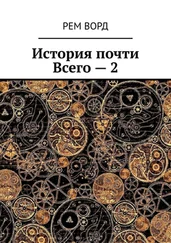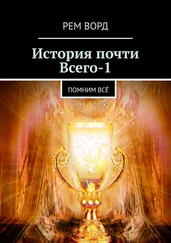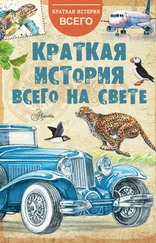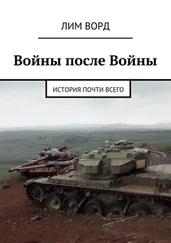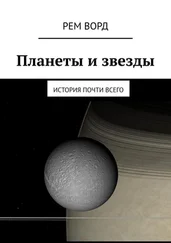Стан.: А, кстати, тоже латинское слово…
Г. Ч. Г.: Конечно, греко-латинская — от диаспоры до Микронезии и Полинезии. И анатомическая, и мифологическая.
Стан.: Хотя не греки и не римляне ее открыли.
Г. Ч. Г.: Но они увидели и сформулировали связь между путешествием внешним — в большом космосе, и путешествием внутренним. Поэтому мир костей и камней отражается в мире растений или звезд.
Стан.: Каким образом?
Г. Ч. Г.: Одна из загадок — как переводить внутреннее во внешнее.
Стан.: Вы хотите сказать, что и вот этот перевод с греческого на латынь…
Г. Ч. Г.: Именно — не будем пугаться этого слова — Одиссей и Эней — культурная парадигма путешественника, средиземноморского человека, открывающего мир в трех направлениях, в трех плоскостях. Оба возвращаются — один к себе домой, другой — к своей миссии — строительству нового города.
Стан.: Так, это — внутрь себя, внутрь своей задачи.
Г. Ч. Г.: Да, конечно.
Стан.: И во внешний мир. И потом римляне буду строить свои дороги… Понятно. А какое третье измерение?
Г. Ч. Г.: В загробное царство. Потому что оно находится все-таки и не внутри, и не вовне.
Стан.: А в обыденной жизни этот промежуток — в театре. И отсюда — ваш любимый аристофановский сюжет — кого выводить из загробного царства — Эсхила или Еврипида?
Г. Ч. Г.: Совершенно верно! Путешественник — и любитель, и профессионал — отправляется в путь, всегда держа в голове две вещи: он идет туда, где говорят на другом языке, и он идет туда, откуда может не вернуться. Это все прикрыто так называемым любопытством, интересом к древностям, всякой мишурой. Но на самом деле путешественник сознательно рискует.
Стан.: Как-то мрачновато получается, нет?
Г. Ч. Г.: Да, мрачновато. Зато правда.
Стан.: Как древние делали театр из эпоса, Аристотель, да и сам Эсхил рассказывали. А вот как делали театр из истории, так что наука история как бы пошла в одну сторону, а театр, взяв то же самое, совсем в другую? И — кто научил делать из истории театр?
Г. Ч. Г.: Вот так вопросы у вас! Почти автоматический ответ: делали, конечно, филологи. Хотя и здесь есть загвоздка. Первые исторические драмы, поставленные в Афинах и нам не известные, это «Взятие Милета» и «Финикиянки» Фриниха. Они были созданы по таким горячим следам событий, что зрителям и судьям их было больно смотреть.
Стан.: И «Взятие Милета», кажется, отменили или даже запретили показывать. Но «Персы» -то Эсхила потом взяли свое.
Г. Ч. Г.: Это верно, и трагедия Эсхила оставалась предметом изучения в школах как образцовая и даже входила в число так называемых «византийских трагедий», допущенных к изучению в христианской школе. Но я о другом хочу сказать. Дело в том, что воображение, разбуженное драматургом, перехлестнуло возможности зрителей. Это был триллер, которому в тогдашней жанровой сетке не было места. В традиционном, заданном еще Аристотелем и остающемся в работе, так сказать, подразделении, описаны корни проблем, которые возникнут в театре через две тысячи лет. Когда Аристотель пишет, что «поэзия философичнее и ценнее истории» (или достойнее, у нас, по традиции, переводят «серьезнее», но это менее точно), он имеет в виду способность поэзии разбудить воображение, показать возможное как вероятное и…
Стан.: …и этим вывести зрителя из себя?
Г. Ч. Г.: Совершенно верно. При этом Аристотель показывает в «Поэтике», как драматическое искусство развивается в теории, его интересует каркас, и драматурги обычно могут получить от Аристотеля больше, чем режиссеры. А поскольку древние трагики были в одном лице и авторами текста, и постановщиками…
Стан.: А иногда, если сегодняшним языком говорить, и продюсерами?
Г. Ч. Г.: Да, так вот Аристотеля больше всего интересует все-таки текст произведения. Зато его последователей все больше и больше волнует как раз действенная сторона поэтического искусства. Что происходит в голове у читателя, когда в нее проникает выдающееся произведение, какая драма там разыгрывается, или, опять же, может, или даже могла бы разыграться.
Стан.: А пример какой-нибудь можете привести.
Г. Ч. Г.: Ну вот пример почти хрестоматийный.
Стан.: Почему почти?
Г. Ч. Г.: Потому что он мог бы быть, стать, считаться хрестоматийным, ведь его изучают в классических гимназиях испокон веку.
Стан.: Там, где изучают.
Г. Ч. Г.: Ну да. Так вот Дионисий Галикарнасский. Сочинение со скучным названием «О соединении слов». Оно было написано почти две тысячи лет назад в русском прекрасном переводе О. В. Смыки и с замечательнейшими комментариями А. А. Тахо-Годи — лет сорок лет назад, в конце 1970-х в университетском издательстве. Там есть одна маленькая глава, в которой Дионисий показывает, какие чудеса способен проделать и проделывает поэт и историк, которые организуют театр сначала в голове читателя.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу