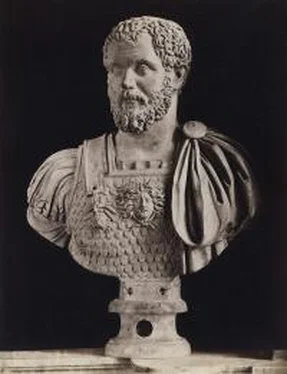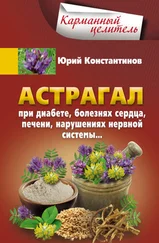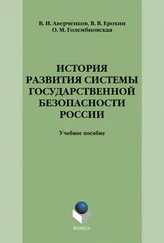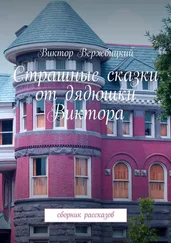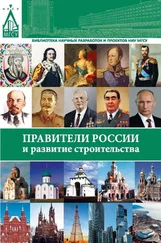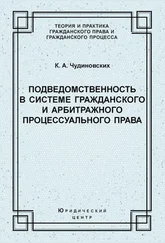Вопрос о деле Нумантины более сложен: ей было предъявлено обвинение в том, что она с помощью магии наслала безумие на Плавтия Сильвана, своего бывшего мужа. В припадке этого безумия он, будто бы, и убил Апронию (ibidem, IV, 22). Нам кажется, что магические действия с враждебной целью могли квалифицироваться как crimen majestatis в тех случаях, когда магия рассматривалась как часть предполагаемого заговора. Любая политическая акция, как официального, государственного, так и антигосударственного характера в те времена обязательно сопровождалась сакральными действиями: гаданиями, жертвоприношениями и т. п. Поэтому оккультная практика, особенно в отношении принцепса, даже при отсутствии других доказательств, могла служить достаточным основанием для обвинения в заговоре, как это было, например, в случае с Либоном Друзом. [412] Портнягина И. П. Сенат и сенаторское сословие… С. 138.
В сообщении Тацита по поводу дела Нумантины о заговоре нет ни слова, процесс упоминается скорее в связи с рассмотренным выше делом Сильвана, и, возможно, её привлекли к суду на основании какого-то другого закона. Следовательно, этот случай не имеет к lex majestatis никакого отношения. С другой стороны, Плавтий Сильван был претором, а, следовательно, объектом оккультной практики в данном случае выступало официальное должностное лицо римского государства.
Наконец дело Ката Фирмия — типичный процесс делятора: он оклеветал сестру, обвинив ее в оскорблении величия (ibidem, IV, 31). Поскольку у нас есть сомнения по поводу того, на основании каких законов рассматривались эти дела, мы не упомянули их в общем списке, тем более, что ни одно из них не имело политического подтекста.
По крайней мере двое обвиняемых были казнены (Титий Сабин и Элий Сатурнин) и шесть человек покончили с собой (Гай Силий, Цецилий Корнут, Кремуций Корд, Гемин и Приска, Нерон). Сосланы четверо: Вибий Серен, Созия Галла, Кассий Север и Вотиен Монтан. У жителей города Кизика отняли старинные вольности, дарованные им еще в Митридатову войну (Tac. Ann., IV, 13, 18–21, 28–31, 34–36, 42, 52, 66, 68–71; VI, 23; Dio, LVII, 22–24; LVIII, 3–5).
В ряде случаев мы не может точно сказать, чем кончилось дело: неизвестно к какому наказанию была приговорена Клавдия Пульхра, неясна развязка дела Квинтилия Вара, — Тацит передает, что разбирательство было отложено, но удалось ли ему избежать наказания неизвестно. Дион Кассий сообщает, что Тиберий погубил Муцию, её мужа и двух дочерей, но были ли они казнены или покончили с собой, не уточняет. Что касается характера обвинений, то, по крайней мере, в восьми случаях налицо явный выход за рамки традиционного lex majestatis : Кальпурний Пизон, Гай Коминий, Вотиен Монтан и Элий Сатурнин были привлечены к суду за оскорбление Тиберия словом; Клавдия Пульхра обвинялась в ворожбе; Кассий Север в нападках на знатных граждан; Фуфий Гемин и Приска в нечестии; Кремуцию Корду вменили в вину его исторический труд (Tac. Ann., IV, 13, 18–21, 28–31, 34–36, 42, 52, 66, 68–71; VI, 23; Dio, LVII, 22–24; LVIII, 3–5). Если прибавить сюда те случаи, когда истинной причиной возбуждения судебного преследования была принадлежность к партии Агриппины, а обвинения, скорее всего, сфабрикованы, получится, что почти каждый второй процесс противоречил существующим законам.
Общее число процессов в 23–30 гг. было велико — гораздо больше, чем известно нам из Тацита, который, как обычно, упоминает далеко не все. Подобно многим своим современникам, Тацит воспринимал историю сквозь призму моральных оценок: главная задача его труда — сохранить память о проявлениях добродетели и заклеймить позором бесчестные слова и дела (Tac. Ann., III, 65).
Такое понимание автором "Анналов" своей задачи предопределило его особое внимание к фактам исключительным: примерам выдающейся доблести, подобно делу Марка Теренция, мужественно защищавшегося от обвинения в причастности к заговору Сеяна (ibidem, VI, 8), или беспримерной низости доносчиков, как дело Вибия Серена, обвиненного собственным сыном, и Тития Сабина, или же, наконец, необычного великодушия Тиберия (ibidem, IV, 31). Такого рода события Тацит описывает во всех подробностях, тогда как более заурядные в подавляющем большинстве случаев оставляет без всякого упоминания, ограничиваясь общей характеристикой, вроде: "… затем от недостойных слов перешли понемногу к делам… в государстве царили мир и покой… уже в этом году принципат начал меняться к худшему… в Риме, где непрерывно выносились смертные приговоры…" — " Paulatim dehinc ab indecoris ad infesta transgrediebantur… compositae reipublicae, florentis domus… mutati in deterius principatus initium ille annus attulit… At Romae caede continua …" и т. п. (ibidem, III, 66; IV, 1, 6; VI, 29).
Читать дальше