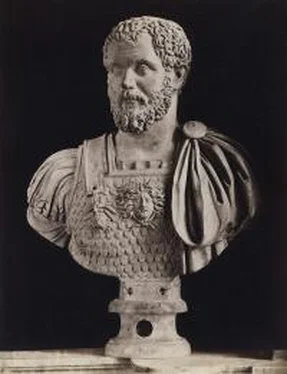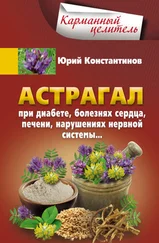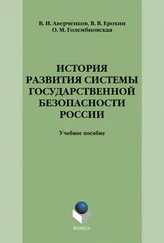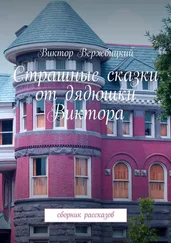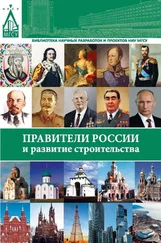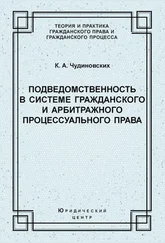Выдвинутый в своё время М. И. Ростовцевым тезис о сложном, синтетическом характере власти Августа, и невозможности по этой причине её однозначного определения завоёвывал в последующие десятилетия всё более широкую популярность. Данное обстоятельство не мог не отметить Л. Викерт, автор обзора литературы об Августе и его принципате в "Aufstieg und Niedergang der romischen Welt". [32] Wickert L. Neue Forschungen zur romische Prinzipatus // ANRW. Bd. II. T. 1. New-York, Berlin, 1974. S. 1-76.
Сам Л. Викерт полностью присоединяется к этому итоговому выводу западной историографии. Созданную Августом систему невозможно определить в рамках какой-либо одной из существующих государственно-правовых категорий; современная наука в состоянии лишь дать её всестороннее описание. [33] Wickert L. Princeps (civitatis) // RE. Bd. XXII, Stuttgart, 1954. Sp. 2295–2296.
В современной российской исторической науке присутствует тенденция рассматривать проблему принципата в контексте широкого социально-политического процесса. [34] Кнабе Г. С. Корнелий Тацит и проблемы истории Древнего Рима эпохи ранней Империи. Автореф. дисс… д-ра ист. наук. М., 1983. С. 20–25.
В частности, А. Б. Егоров в монографии "Рим на грани эпох" указывает, что политические изменения были частью перехода от Рима-полиса с провинциями-колониями к средиземноморской державе. Власть Августа представляется автору сложной системой: правовая власть, выраженная в potestas и imperium , дополнялась важными экстралегальными факторами, превращавшими чрезвычайного магистрата во всемогущего владыку. [35] Егоров А. Б. 1). Рим на грани эпох. С. 103, 218; 2). Становление и развитие системы принципата. Дисс… д-ра ист. наук. СПб., 1991. С. 275.
Таким образом, нельзя не заметить, что диапазон мнений достаточно велик. Поэтому, вполне естественным шагом с нашей стороны будет попытка обозначить те положения, которые, на современном этапе изучения проблемы, можно считать более-менее твёрдо установленными. Конечно, подобного рода характеристику системы Августа нельзя счесть ни подробной, ни полной, однако даже в таком виде она является совершенно необходимым элементом любого исследования, так или иначе затрагивающего вопросы становления или эволюции принципата.
Во-первых, необходимо отметить, что указанная система складывалась постепенно, в течении ряда лет. Её возникновение не было результатом какого-то единовременного политического акта. [36] Гримм Э. Д. Исследования по истории развития… Т. I. С. 129, 150.
Во-вторых, следует признать, хотя в основных своих моментах принципат и сформировался при Августе, в дальнейшем система не оставалась неизменной, а напротив претерпевала длительный и сложный процесс эволюции. [37] Там же. С. 217слл.
В-третьих, практически все исследователи сходятся на том, что правовой основой власти Августа и его преемников были проконсульский империй и трибунская власть, дополненная и расширенная при помощи ряда специальных полномочий. [38] Mommsen Th. Romische Staatsrecht… S. 840, 872–873. — Последующая историография усвоила этот тезис Моммзена, и в работах по принципату он стал, практически, общим местом.
Однако, помимо правовой, выраженной в potestas и imperium , власть принцепса имела ещё и внеправовую сторону, и вопрос об их соотношении представляется столь же важным, сколь и трудно разрешимым.
В-четвёртых, материальной основой фактического единодержавия римских императоров был огромный перевес сил на их стороне: за ними стояла армия и мощная личная партия.
В-пятых, хотя Августу путём различных политических ухищрений удалось придать своему режиму видимость легитимности, его успех на этом пути не был полным и окончательным. В органическую часть политической структуры Римского государства принципат превратился гораздо позднее, и без учёта этого обстоятельства нельзя понять последующую эволюцию режима при Юлиях-Клавдиях и Флавиях. [39] Егоров А. Б. 1) Становление и развитие системы принципата. Дисс… С. 430–431; 2) Становление и развитие системы принципата. Автореф. дисс… д-ра ист. наук. СПб., 1992. С. 32.
Завершая наш краткий обзор основных теорий принципата, имеющих хождение в исторической литературе, хотелось бы обратиться к проблеме типологизации этой политической системы. Рассмотреть данный вопрос подробно в рамках данного вводного очерка не представляется возможным, поэтому мы позволим себе ограничиться лишь общей декларацией. Выше нами уже было отмечено то обстоятельство, что современная историческая наука, в общем, придерживается взгляда на принципат как на уникальный комплекс политических и правовых элементов, который не может быть определён каким-либо одним термином или краткой формулой. Данный тезис был выдвинут ещё М. И. Ростовцевым и в той или иной степени получил отражение в трудах А. фон Премерштейна, Р. Сайма, Л. Виккерта и в посвящённом Августу разделе "Кембриджской древней истории". [40] Ростовцев М. И. 1) Рождение Римской Империи… С. 128–130; 2) A History… Vol. II. P. 181; CAH. Vol. X. P. 587, 589f; Premerstein A. von. Vom Werden und Wesen… S. 132–133; Syme R. The Roman revolution. P. 516–518; Wickert L. 1) Princeps… Sp. 2295–2296; 2) Neue Forschungen… S. 76.
Проистекающие отсюда трудности вынуждают исследователей, пытающихся определить специфику положения принцепса в римском государстве, прибегать к историческим аналогиям, не всегда ограничиваясь при этом рамками истории Древнего мира. [41] Premerstein A. von. Vom Werden und Wesen… S. 132–133; Cowell J. R. The Revolution of Ancient Rome. Oxford, 1968. P. 174–179.
Однако, как нам представляется, наиболее устойчивые параллели возможны как раз с древними обществами. [42] Егоров А. Б. Рим на грани эпох. С. 221.
Впрочем, сопоставление принципата и Римской империи с эллинистическими монархиями, Сицилийской державой Дионисия I и Карфагеном, встречающиеся в литературе по античной истории, [43] Там же. С. 221–222.
наряду с явными общими чертами обнаруживает и весьма существенные различия.
Читать дальше