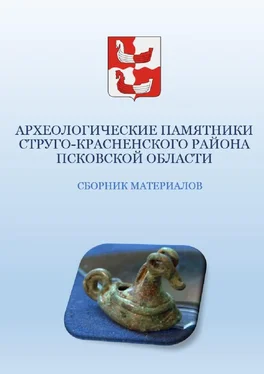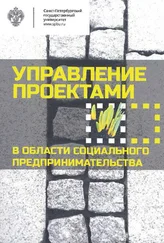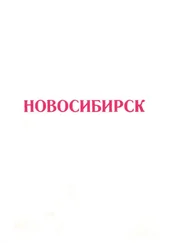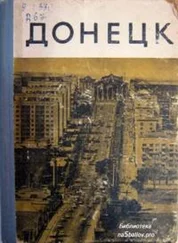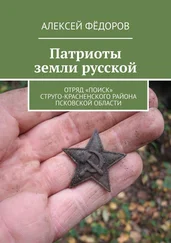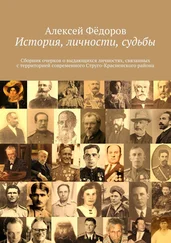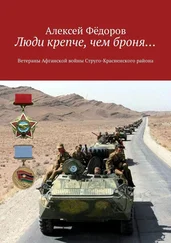Находки показались Л. А. Васильеву интересными, раскопки курганного кладбища, где они были сделаны, решено было продолжить. Руководство МАЭ, по всей вероятности, заинтересованное в пополнении фондов музея материалами древнерусского времени, получило у Императорской Археологической комиссии Открытый лист на эти работы ( Соболев , 2006. С. 312, 338) и, в свою очередь, выдало народному учителю Л. А. Васильеву свой Открытый лист на раскопки ( Соболев , 2006. С. 312—313, 336).
Летом 1911 г. Л. А. Васильевым было исследовано 17 курганно-жальничных и жальничных погребений у дер. Логовеще и ещё 16 курганов у дер. Селище той же Лудонской волости Лужского уезда (ныне территория Струго-Красненского района). Отчёт, представленный в Музей Антропологии и Этнографии, к сожалению, не содержит чертежей и описывает проведённые раскопки лишь суммарно, без привязки вещей к отдельным погребениям и без описания строения и конструктивных особенностей каждой исследованной насыпи. Но всё же переданная в музей коллекция (Колл. МАЭ №1849) несёт очень интересную информацию по истории материальной культуры XIII—XIV вв. ( Соболев , 2006. С. 314—320, 325—327).
Также летом 1911 г. выпускником Петербургского университета К. В. Кудряшовым, будущим крупным советским историком, специалистом по древнерусской истории, истории России XIX в. и исторической географии, было раскопано 2 насыпи, относящихся к культуре длинных курганов в группе у дер. Безьва (Кудряшов, 1913.С. 247—248) к западу от западной границы района.
Кроме описанных, сохранилось несколько кратких упоминаний о дореволюционных раскопках на рассматриваемой территории. В. И. Срезневский вёл раскопки жальничного могильника у дер. Сковородка на оз. Барском, но материалы его работ не сохранились. В 1917 г. Н. Е. Макаренко передал в Археологическую Комиссию небольшую коллекцию гончарной керамики, полученную В. И. Срезневским при раскопках Яблонецкого городка, хранящуюся ныне в ОАВЕС ГЭ (Колл. ГЭ 876). Отчётов обо всех этих работах найти не удалось.
С началом Первой Мировой войны основная масса археологических исследований в империи была свёрнута, а годы революции и Гражданской войны не допускали даже мысли о возможности проведения каких-либо научных исследований. Изучение археологических памятников Лужского и Гдовского уездов вновь началось лишь во второй половине 1920-х годов. Стоит отметить, что за прошедшее десятилетие полностью сменился состав исследователей, работавших не только в южных и западных уездах Петроградской губернии, но и в общем на всём Северо-Западе. В целом судьбы этих людей оказались довольно типичными для своего времени: ученик А. А. Спицына Андрей Вячеславович Тищенко погиб в августе 1914 г.; один из лучших, на мой взгляд, археологов-полевиков конца XIX — начала XX столетия, инвалид Русско-Японской войны Владимир Нилович Глазов вновь вступил в службу в Министерство внутренних дел Правительства Юга России, эмигрировал и умер в Болгарии в приюте при храме-памятнике Шипка. Леонид Николаевич Целепи, бывший судебный следователь, собиратель и публикатор русских старопечатных книг, остался без средств к существованию и скончался в Петрограде в 1919 г. Как сложилась жизнь талантливого и удачливого исследователя Гдовского уезда Константина Дмитриевича Трофимова, к сожалению, мне не известно. По всей вероятности, в силу возраста и ухудшения материального положения завершил свои полевые выезды Николай Фёдорович Арепьев. Многие их современники прекратили занятия археологией вообще (как, например, почти все студенты А. А. Спицына, участники «исторического семинария» Историко-филологического факультета Петербургского университета — К. В. Кудряшов, П. А. Садиков, Вл. А. Острогский, Н. Ф. Лавров), либо продолжили свои работы в других регионах (С. А. Дубинский, С. С. Гамченко).
Сохранились лишь отрывочные сведения об отдельных работах студентов Ленинградского университета и местных краеведов на протяжении 1920-х годов.
Возобновление археологических исследований на Северо-Западе относится к 1926—1927 гг. и связано с работами Комиссии по учету и охране археологических (палеоэтнологических) памятников Ленинградской губернии, а после реформы 1927 г. Ленинградской области, включившей в себя после указанной реформы также территории современных Псковской, Новгородской, Вологодской и Мурманской областей. В 1927 г. в Государственной Академии Истории Материальной Культуры (ГАИМК) при участии Бюро краеведения, поддержке и финансовом участии русско-финской секции Комиссии по изучению племенного состава населения СССР и сопредельных стран (КИПС) и Наркомпроса был организован Палеоэтнологический отряд, который возглавил П. П. Ефименко ( Белова , 1985. С. 138—139). Непосредственно сбором сведений, их систематизацией и проведением аварийных и плановых раскопок занимались молодые сотрудники, аспиранты и практиканты ГАИМК — М. И. Артамонов, В. И. Равдоникас, Б. А. Коишевский, Г. П. Гроздилов, Н. Н. Чернягин, Г. Ф. Дебец, А. А. Иессен и другие. В 1927—1931 гг. было обследовано более тысячи археологических памятников, составлен каталог на 630 сохранившихся (для предвоенной Ленинградской области). Основой для проведения этих работ в пределах Причудья и Поплюсья были уже рассматривавшаяся карта Г. Р. Шмидта и материалы для археологической карты Санкт-Петербургской губернии, собранные в 1900—1903 гг. Санкт-Петербургским Археологическим Институтом.
Читать дальше