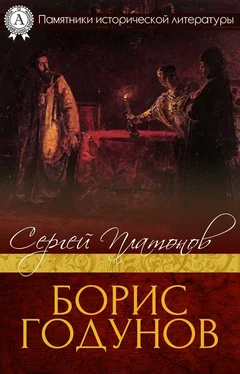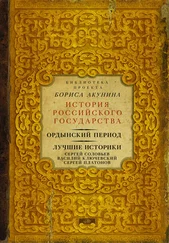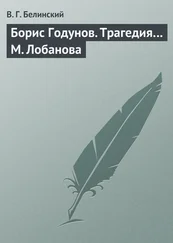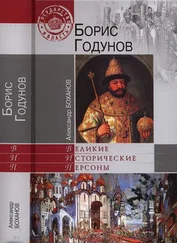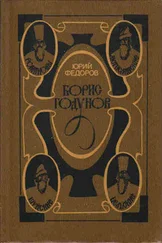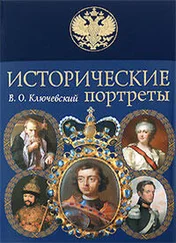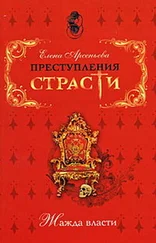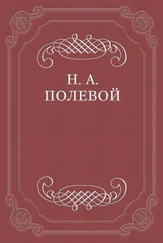В южных городах на «поле» была заведена казенная «десятинная» пашня. В Ельце, Осколе, Белгороде, Курске размеры этой пашни при царе Борисе были так велики, что последующие правительства, даже в пору окончательного успокоения государства, не решались возвратиться к установленным при Борисе нормам. Царь Михаил Федорович восстановил десятинную пашню лишь в половинном размере: в помянутых городах велено было в 1620 голу запахивать всего по триста десятин в трех полях вместо прежних шестисот. А в Белгороде первоначально думали пахать на государя даже девятьсот десятин; но уже в Борисово время сошли на шестьсот, обратив остальные триста десятин в раздачу служилым людям. Нетрудно представить себе, каким тяжелым бременем ложилась на местное служилое население обязанность обработать столь значительную площадь земли. Не установив еще своего хозяйства, оно должно было тратить свои силы на чужом, плоды которого ему не доставались вовсе. Собранное с государевых полей зерно, если не лежало в житницах в виде мертвого запаса, то посылалось далее на юг для содержания еще не имевших своего хозяйства служилых людей. Так, из Ельца и Оскола «важивали» хлеб в новый Царев-Борисов город, а с Воронежа «ежелет» посылали всякие запасы «из государева десятинного хлеба» донским казакам. Местное же население, жившее в данном городе «на вечном житье» или же присылаемое туда временно, «по годам», не всегда даже получало за свой труд вознаграждение, довольствовалось только «поденным кормом», а иногда даже само платилось своим добром для казенного интереса. Так, чиновники Бориса на Воронеже отрезали 300 десятин из стрелецкой и казачьей земли под государеву пашню, практика же позднейших лет показывает, что администрация считала себя вправе занимать у жителей зерно для посева на государевой пашне и возвращать заем без малейшего процента.
Таким образом, то население московского юга, которое служило правительству в новых городах, не могло быть довольным обстановкою своей службы. Собранные на службу «по прибору» из элементов местных, из недавних «приходцев» с севера, эти служилые люди — стрельцы и казаки, ездоки и вожи, пушкари и зачинщики — еще не успели забыть старых условий, которых сами они или их отцы стремились «избыть» в центральных местностях государства. Но «избыв» одного зла, этот люд на новых местах нашел другое — вместо барской пашни нашел казенную, одинаково кабалившую. Если ранее его врагом представлялся ему землевладелец, то теперь его врагом было правительство и чиновники, угнетавшие народ тягостной службой и казенной запашкой. В голодные годы настроение недовольных должно было очень обостриться, и «прелестные письма» самозванца находили для себя прекрасную обстановку. Украина легко поднималась на центр, увлеченная возможностью соединить свою месть угнетателям с помощью угнетенному «истинному царевичу». В одну «казачью» массу сбились ставшие за Димитрия служилые люди и «вольные казачия» — военное население укрепленных городков и бродячие обитатели казачьих заимок, юртов и станов; и вся эта масса двинулась на север, ожидая соединения с «царем Димитрием» там, где он укажет.
Таким образом, кампания самозванца против Бориса началась сразу на двух фронтах. Сам самозванец вторгся в Московское государство от Киева и пошел вверх по течению р. Десны, по ее правому берегу, надеясь этим путем выйти на верховье Оки, откуда пролегали торные дороги на Москву. В то же время казачьи массы с «поля» пошли на север «по крымским дорогам», группируясь так, чтобы сойтись с самозванцем где-нибудь около Орла или Кром и оттуда вместе с ним наступать на Москву через Калугу или Тулу. Войска Бориса несколько опоздали с своим походом против самозванца. Борис назначил сборным пунктом для главной армии Брянск — город, лежавший одинаково близко к Смоленскому и Северскому рубежам. Откуда бы ни появился враг, от Орши или от Киева, войска от Брянска могли быть брошены ему навстречу. Когда выяснилось, что самозванец идет «с Северы», воеводы пошли туда и подоспели не к самому рубежу, а встретились с самозванцем только у Новгорода-Северского. Он успел взять городки по Десне, даже город Чернигов, но под Новгородом-Северским задержался надолго. Прямая дорога на север, к Москве, была для него прочно закрыта. Зато он получал вести, что восточнее его, на «поле», город за городом признавал его власть. В течение двух недель ему были сданы Путивль, Рыльск, Севск, Комарицкая волость, Курск, Кромы. Затем признали его Белгород и Царев-Борисов. Быстрое подчинение «поля» и «украинных» городов соблазнило самозванца. Он бросил осаду Новгорода-Северского и повернул направо, на восток, к Севску, для немедленного соединения с казаками. Но Борисовы воеводы догнали его на марше и разбили наголову его «жменю» польско-литовских и русских людей. Самозванец тогда побежал на юг, не успев соединиться с казаками, и затворился в каменном Путивле, растеряв все свои силы и не имея твердой надежды на личное спасение. Казалось, его песня была спета.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу