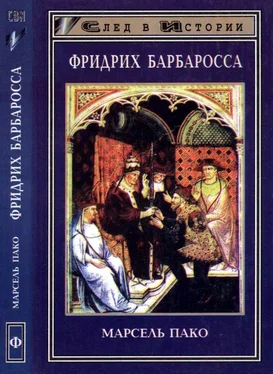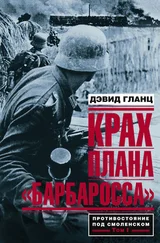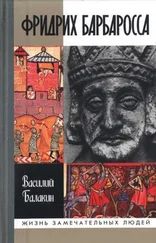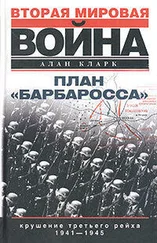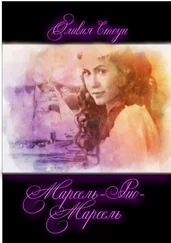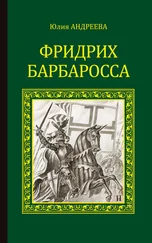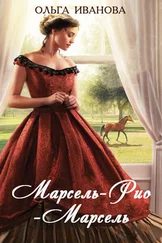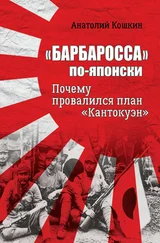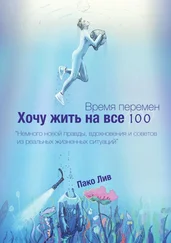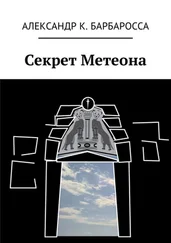И тем не менее история также сыграла и против этого объединения.
С одной стороны, действительно, самые западные области королевства (Брабант, Геннегау, Голландия) мало интересовались германскими предприятиями и продолжали жить собственной жизнью, ибо судьба их сложилась вне зависимости от чисто немецкой реальности: эти края при Верденском разделе 843 года не вошли ни в долю Карла Лысого (Франция), ни в долю Людовика Германика (Германия), а были включены вместе с Италией, Провансом и Бургундией в территории, доставшиеся Лотарю, с тем чтобы со временем сформировать северную закраину Лотарингии, включенной в 925 году в тевтонское королевство.
Эти земли не стремились примкнуть к другой политической структуре, а желали вести свое собственное существование, не принимая во внимание, также и по географическим соображениям, самые важные немецкие достижения в южном и восточном направлениях.
С другой стороны, чисто германский гений и общеисторическое развитие ввели в игру два элемента, которые вроде бы могли ослабить сплоченность.
Первый из них исходил, как можно было с большей или меньшей ясностью полагать, от некой власти, практически трудно определимой, но принадлежащей аристократии, власти того же происхождения и той же природы, что и королевская, возможно, и данная народом, но скорее — власть военачальника над своими воинами.
Итак, в аристократической среде самое важное место было занято теми, кто в X веке, при общем ослаблении центральных органов, сформировал для себя княжества, соответствовавшие — и это было их основополагающей чертой — «этническим группам, отличавшимся друг от друга диалектами и юридическими учреждениями» (Ш.Э. Перрен). Так возникли этнические или национальные герцогства ( Stammes - herzogtum ) Саксонское, Баварское, Швабское, Франконское и Лотарингское. Германия X века являлась страной, состоящей из пяти этих «государств», воодушевленных ярко выраженным партикуляризмом.
В конце X и XI веков королевская власть яростно старалась ослабить эти разъединяющие силы.
Частично ей удалось установить над ними свой контроль, оставив за собой право инвестировать герцогства, тем более что понятие этнического герцогства к тому времени стерлось и уступило место более простой реалии герцогства территориального или земельного, то есть совокупности территорий, неоднородных по обычаям и правовым основам, но управляемых одним герцогом. Тем не менее, в середине XII века еще существовали герцоги новой формации, отличающиеся от старых герцогов титулами и влиянием. Они правили по собственному усмотрению и руководили многочисленным населением, знатным и незнатным, распоряжаться которым монарх мог лишь через них. Они поддерживали идею общественной власти, осуществляемой коллективно королем и аристократией, и идея эта упрочилась с 1125 года, после того как выборная система вновь вошла в силу.
Однако следует избегать упрощенного подхода. Конечно, германское герцогство сопротивляется унификации, еще больше сопротивляется инертная масса центральной монаршей власти. Но герцогство никогда не выражает желания к дезинтеграции, к отделению, потому что, с одной стороны, связано с коллективной организацией понятием общественной власти, с другой — будучи изначально «этническим» и в дальнейшем оставаясь привязанным к старым традициями и к определенным территориям, оно ввиду всех этих причин остается исконно германским.
К этим же выводам — опасность для королевской власти, ослабление сплоченности, препятствия на пути к реальному союзу, но не угроза полного его распада, разобщения или исчезновения королевства — подводит нас анализ второго элемента, привнесенного историей в Германию середины XII века, а именно: феодализма, который обостряет распри между принцами (Вельфы и Штауфены). Как и во многих других районах Запада, в Германии в IX и X веках установился феодальный строй, основанный на системе зависимости, связывающей наиболее слабых сеньоров с более сильной знатью, что конкретизировалось в клятвенном обещании верности. Соответственно, крупная знать оказывала протекцию вассалам, получавшим от нее ленные владения взамен обязательства выполнять различные повинности (уплата пошлин, свидетельство в суде, военная помощь). Результатом этого явилось усиление некоторых местных принцев, имеющих многочисленных вассалов, и, следовательно, ослабление королевской власти, не имеющей возможности напрямую распоряжаться всеми людьми, так как не все они находились в непосредственной вассальной зависимости от нее. Более того, общественные функции также имели тенденцию к феодализации, то есть рассматривались как назначения, пожалованные монархом в качестве лена и, следовательно, регламентированные феодальным правом, сводившим практически на нет контроль со стороны короля-сюзерена. Именно так обстояло дело и с городской юрисдикцией, которая первоначально являлась государственной службой местной администрации (графства) от имени центральной власти, а впоследствии стала главным звеном феодальной иерархии. Графство же было леном, который король не мог упразднить.
Читать дальше