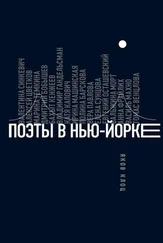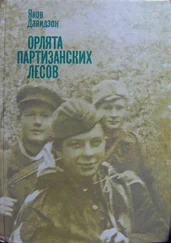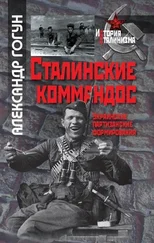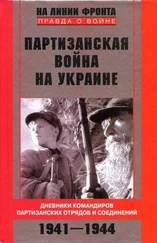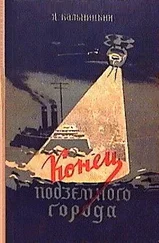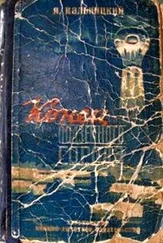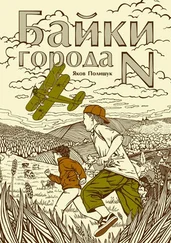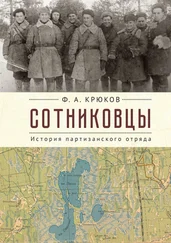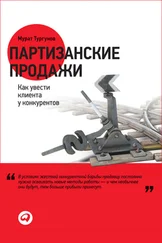В дальнейшем между Мамонтовым и Громовым сложились хорошие, товарищеские отношения. Все оперативные вопросы решались втроем: Мамонтовым, Громовым и Жигалиным. Надо сказать, что оба они всегда прислушивались к моим советам, и между нами за все время не было ни одного крупного разногласия.
Сразу же по назначении меня начальником штаба корпуса начались бои. Я все время находился при Мамонтове, и думать об организации штаба было некогда. Лишь с 15 октября началось формирование штаба корпуса. Хорошим помощником мне оказался И. П. Маздрин, большевик, политически грамотный. Он с успехом заменял меня во время моего отсутствия, активно помогал в разработке диспозиций. В штабе имелся скромный аппарат: адъютанты — Васильев, бывший учитель, прапорщик военного времени, и Соколов, бывший адъютант Громова, секретарь И. И. Зиновьев, инструктор по формированию полка Малышев, прапорщик военного времени.
Каждый адъютант выполнял функции целого отдела, которых при штабе не было. Все делопроизводство штаба состояло из нескольких папок с приказами и оперативными документами и донесениями разведки. Вначале никаких диспозиций не составляли, ограничивались отдельными приказами на имя командиров частей. Первый опыт составления диспозиции относится к 20 октября, при наступлении на станцию Рубцовка. Опыта настоящей штабной работы ни у меня, ни у Маздрина не было, и диспозиция не отвечала многим требованиям. Потом большую помощь в этом вопросе нам оказал П. К. Голиков, бывший начальник штаба Даурского фронта в 1918 году.
Штаб корпуса находился в селе Солоновка, но во время больших походов двигался вместе с главкомом и комкором, например в походе на Семипалатинск.
Функции главкома и комкора переплетались, и часто приказы по корпусу подписывал Мамонтов. Но никаких недоразумений на этой почве не было.
В это же время объединились и польские отряды, выступавшие из Славгорода и Камня и двинулись на Утичье. Мы решили отойти на село Сидор- ки, где были более удобные позиции для обороны. Огородные канавы вокруг села партизаны быстро превратили в окопы и приготовились встретить врага.
Утром 8 октября, перед наступлением на Сидорки, белополяки подвергли его интенсивному артиллерийскому и пулеметному обстрелу. Густыми цепями пошла в атаку пехота. Партизаны не отвечали, строгий приказ командования гласил: открывать только прицельный огонь с дистанции 150–200 шагов. После первых залпов партизан вражеские цепи дрогнули и откатились назад, оставляя десятки убитых и раненых. Подгоняемые своими офицерами, белополяки еще несколько раз пытались атаковать наши позиции, но, встреченные метким огнем партизан, неизменно откатывались назад. День клонился к вечеру, конница противника пошла в обход нашего левого фланга. Чтобы парализовать ее наступление, Громов выслал против нее подготовленную группу крестьян — около тысячи человек на лошадях, вооруженных кольями, косами и самодельными пиками и несколькими дробовиками. Эта «конница» с шумом и криками «ура!» понеслась навстречу вражеской кавалерии, та не выдержала «психической» атаки безоружной толпы и повернула обратно. Такую кавалерию партизаны прозвали «А-ро-ро». И, действительно, истошное «ура!», исходящее из тысячи грудей, напоминало раскатистый звук «а-ро-ро». Наша хитрость, по существу, решила исход боя. Нами было захвачено несколько десятков винтовок, патроны и имущество, награбленное у населения. Очень ценным трофеем оказался приказ, найденный у убитого польского офицера.
Но широко задуманный план колчаковского командования по ликвидации партизанской армии с треском провалился. Генерал Евтин, возглавлявший операцию, был бит ефрейтором Мамонтовым. Партизанское командование доказало свою способность к быстрому оперативному маневрированию.
Успехи вскружили нам голову. Мы переоценили свои силы и возможности и решили предпринять большое наступление на город Семипалатинск. 21 октября вышли на железную дорогу, заняли станцию Рубцовка, а 27 октября — станцию Аул, т. е. подходили к Семипалатинску. Но на этом наше наступление захлебнулось.
Выяснилось, что Семипалатинск хорошо подготовлен к обороне, от Барнаула движутся значительные силы противника, а у нас нет патронов даже на один большой бой. После горячего совещания мы без боя отошли в нашу партизанскую «столицу» — село Солоновка.
С отступлением от железной дороги мы перешли к обороне и потеряли боевую инициативу. Мы хорошо понимали опасность такой тактики, обусловленной острым недостатком патронов — нашей постоянной «болезнью». Единственный источник снабжения патронами для нас — трофеи.
Читать дальше
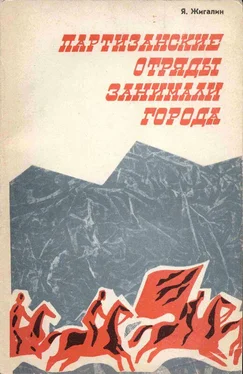
![Игорь Всеволожский - Отряды в степи [Повесть]](/books/34347/igor-vsevolozhskij-otryady-v-stepi-povest-thumb.webp)