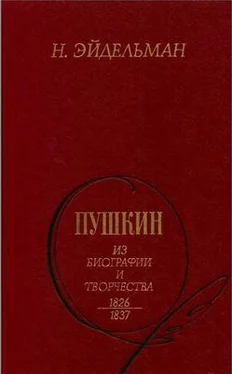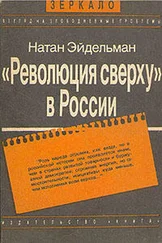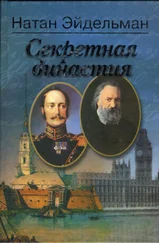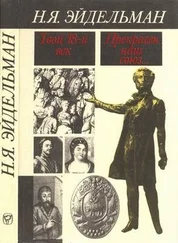Между тем весной и летом 1816 года Карамзин выполняет обещанное, и Пушкин постепенно понимает, что присутствует при необыкновенном эпизоде российской культуры.
Так начинался первый, удивительный, особенно тёплый и дружеский «сезон» в их отношениях. Лицеист Пушкин, как «старый знакомый», представленный ещё в младенчестве, постоянно посещает Карамзина. Хотя старшему пятьдесят, а младшему семнадцать лет — взаимный интерес очевиден.
Зная (может быть, имея новые доказательства) непокорный нрав племянника, дядя Василий Львович 17 апреля 1816 года наставляет его в том, в чём «иных» и не надо было убеждать: «Николай Михайлович в начале мая отправляется в Сарское Село. Люби его, слушайся и почитай. Советы такого человека послужат к твоему добру и, может быть, к пользе нашей словесности. Мы от тебя многого ожидаем» ( XIII, 4).
Неопределённое дядюшкино «мы» подразумевает, конечно, Арзамас, карамзинский круг. Как видим, с первых дней нового знакомства сразу обнаруживаются два начала будущих отношений: сближение идейное, «клановое», арзамасское — и некоторое отталкивание, ирония молодости над любым авторитетом (и, соответственно, старшие предупреждают — «люби его и почитай»).
24 мая 1816 года Карамзин с семьёй поселяется в Царском Селе и работает над окончательной отделкой и подготовкой для типографии восьми томов своей «Истории…». До 20 сентября (дата отъезда Карамзина в Петербург) — важнейший период общения, когда складываются некоторые главные черты будущих отношений.
Догадываемся, что Пушкину «сразу» понравился историограф. Позже он вспомнит и даже изобразит Погодину его «длинное лицо» и особое выражение за работою [353] ЛН, т. 58, с. 351.
.
«Честолюбие и сердечная привязанность» — вот как однажды, десять лет спустя, поэт определит свои чувства во время тех встреч. Пушкин был настолько увлечён, что (по наблюдению Горчакова) «свободное время своё во всё лето проводил у Карамзина, так что ему стихи на ум не приходили…» [354] Красный архив, 1936, № 6 (79), с. 194.
.
Сам же Карамзин 2 июня (то есть через девять дней после приезда) уже сообщает Вяземскому, что его посещают «поэт Пушкин и историк Ломоносов», которые «смешат своим простосердечием. Пушкин остроумен» [355] Письма H. М. Карамзина к кн. П. А. Вяземскому. — Старина и новизна, кн. I. СПб., 1897, с. 11.
.
Молодой Пушкин замечен как поэт (не сказано талантлив , но — остроумен!). Карамзину, очевидно, всё же пришлись по сердцу некоторые поэтические сочинения лицеиста, может быть, остроумные эпиграммы. Вообще знакомство начинается с весёлости, простосердечия, равенства; этого не следует забывать, хотя столь жизнерадостное начало будет почти затеряно, сокрыто в контексте последующего серьёзного противоречивого отношения.
Именно уважением к дару юного Пушкина объясняется известный эпизод, случившийся буквально через несколько дней после возобновления знакомства.
Старый придворный поэт Ю. А. Нелединский-Мелецкий не может выполнить высочайший заказ — написать «приличествующие стихи» в честь принца Оранского, прибывшего в Петербург для женитьбы на великой княжне Анне Павловне. Нелединский бросается к Карамзину, тот рекомендует молодого Пушкина, лицеист в течение часа или двух сочиняет то, что нужно,— «Довольно битвы мчался гром…».
Впрочем, тут же идиллия «взрывается»: гимн приезжему принцу поётся на празднике в честь новобрачных, императрица-мать жалует сочинителю золотые часы, Пушкин же разбивает их «нарочно» о каблук. Верна эта лицейская легенда или нет, она сохраняет отношение Пушкина к событию, моральную ситуацию: стыдно получать подарки от царей!
Карамзин, только что получивший огромную сумму на издание своего труда, а также Анну I степени, вряд ли бы одобрил столь резкое действие; но одновременно — ценил подобный взгляд на вещи. Любопытно, что сам Пушкин позже опишет эпизод, по духу своему сходный (тем более что он связан с поездкой Карамзина в Павловск, то есть в гости к императрице-матери Марии Фёдоровне) : «Однажды, отправляясь в Павловск и надевая свою ленту, он посмотрел на меня наискось и не мог удержаться от смеха. Я прыснул, и мы оба расхохотались…» ( XII, 306).
Пушкин и другие лицеисты, без сомнения, знали, пересказывали ещё немалое число подобных же эпизодов, которые определяли в их глазах карамзинскую репутацию.
«Один из придворных,— писал Вяземский,— можно сказать, почти из сановников, образованный, не лишённый остроумия, не старожил и не старовер, спрашивает меня однажды: „Вы коротко знали Карамзина. Скажите мне откровенно, точно ли он был умный человек?“ — „Да, — отвечал я, — кажется, нельзя отнять ума от него“.
Читать дальше