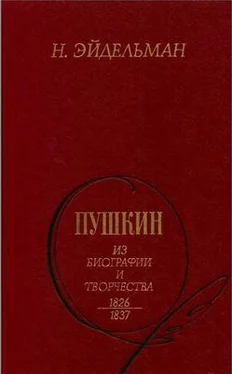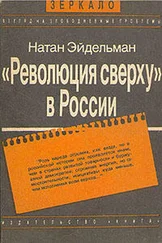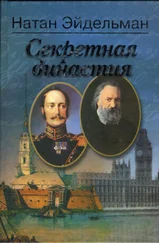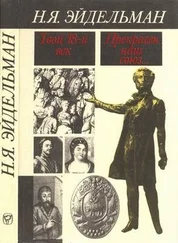…должно надеяться, что люди, разделявшие образ мыслей заговорщиков, образумились: что, с одной стороны, они увидели ничтожность своих замыслов и средств, с другой — необъятную силу правительства, основанную на силе вещей. Вероятно, братья, друзья, товарищи погибших успокоятся временем и размышлением, поймут необходимость и простят оной в душе своей. Но надлежит защитить новое, возрастающее поколение, ещё не наученное никаким опытом и которое скоро явится на поприще жизни со всею пылкостью первой молодости, со всем её восторгом и готовностью принимать всякие впечатления.
На этом как бы заканчивается первая глава пушкинской записки — краткая оценка причины недавних событий.
Снова повторим, что почти каждая строка Пушкина находит аналогию в других его сочинениях, писанных примерно в ту же эпоху; центральная мысль — «ничтожность замыслов и средств» заговора и «необъятная сила правительства, основанная на силе вещей» — прежде была уже серьёзно затронута в «Замечаниях на Анналы Тацита». В записке же «О народном воспитании» Пушкин с особой тщательностью отделывал наиболее ответственную фразу. Первоначально он написал про «необъятную силу правительства, основанную на духе народа…»; поэт в то время действительно считал, что правительство имеет традиционную историческую опору в народе («царистские иллюзии», влияние церкви) — и в конце концов это было одним из признаков страшной удалённости членов тайного общества от большинства населения. Однако вопрос о «духе народа» был всё же не совсем ясен — мелькнуло ведь в начале черновика: «общее мнение ещё не существующее». Народ — объект глубочайших размышлений Пушкина; год назад «Борис Годунов» был завершён тем, что масса, поощряемая «новыми хозяевами», восклицает: «Да здравствует царь Димитрий Иванович!» Несколько лет спустя, по пути в типографию, последняя фраза будет заменена: «Народ безмолвствует».
Проникновение в народный дух — эта задача у Пушкина впереди. «Пугачёв» ещё не появился на горизонте…
В беседе с царём народ, конечно, упоминался: и тяжёлое его положение, и, разумеется, то обстоятельство, которое не уставала подчёркивать власть — что крестьяне и горожане в основной своей массе остались равнодушными, не приняли, не поняли заговора (хотя толпы петербургской черни, готовые 14 декабря вступить в дело, заставляли задуматься об иных исторических возможностях [192] Манифест 13 июля 1826 г. провозглашал, что «мятеж был не в свойствах, не в нравах российских <���…> Сердце России для него было и будет неприступно».— Восстание декабристов, т. XVII, с. 252.
). Согласно Струтыньскому, Николай между прочим сказал Пушкину о «черни»: «Она не посмела подняться против меня! Не посмела! Потому что самодержавный царь был для неё живым представителем божеского могущества и наместником бога на земле» [193] Пугачёв В. В. К эволюции политических взглядов А. С. Пушкина…, с. 683.
. В это же время, 25 ноября 1826 года великий князь Константин Павлович с удовлетворением писал Бенкендорфу о «состоянии умов»: «Я был бы более чем обрадован, узнав, что общественный дух освобождается от заблуждений и явно очищается. Вы так же, как и я, дорогой генерал, хорошо знаете, что дух большинства народа всегда был очень хорош для нас <���…> Любовь к порядку и спокойствию укоренилась во всех классах и сословиях» [194] Гос. ист. Архив Эстонской ССР, ф. 2249 (А. X. Бенкендорфа), оп. 1, № 131, л. 15.
.
Пушкин в своей записке снимает противопоставление мятежников и «народного духа», оставляя более общую формулу — «необъятная сила вещей»: сюда входит и народ, проявляющий верноподданнические чувства, и народ безмолвствующий…
Столь же осторожно отделывается другая важнейшая мысль о милосердии. Слова «братья, друзья, товарищи погибших» как будто перенесены Пушкиным из его письма к П. А. Вяземскому, написанного ещё в Михайловском, 14 августа 1826 года, под впечатлением от приговора декабристам: «Ещё-таки я всё надеюсь на коронацию: повешенные повешены, но каторга 120 друзей, братьев, товарищей ужасна» ( XIII, 291).
Добрые, дружеские его характеристики осужденных связаны с надеждою на царскую милость, прощение; коронация прошла, но некоторое смягчение каторжного срока было совсем не то, о чём мечтал поэт; вместо пожизненного заключения было объявлено 20-летнее; имевший 20 лет получал 15 и т. д.
Пушкин надеялся на другую милость, более близкую к той, которая внезапно коснулась его самого.
Читать дальше