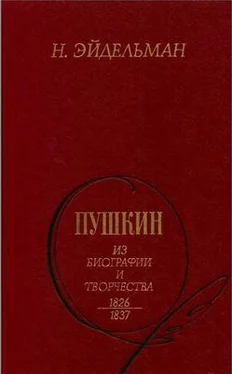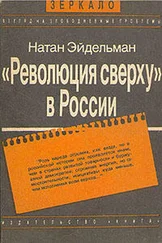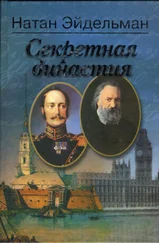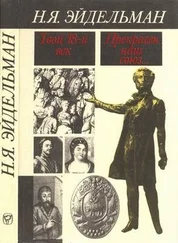В пушкинских «Замечаниях на Анналы Тацита» между прочим доказывалась естественность, историческая необходимость Тибериевых «злодейств»; но в то же самое время пишется «Борис Годунов», где злодейство оспорено исторически и морально. Историческое «оправдание» крови у Макиавелли как будто принято, признано Пушкиным, но — «…гений и злодейство две вещи несовместные. Не правда ль?»
Уходя от примитивного, первичного морализаторства, Пушкин хоть и спорил, но притом нередко опирался на Карамзина. Такое же одновременное «уподобление» и «несогласие» с историографом обнаруживается и в гражданской позиции Пушкина.
После публикации своих записок о Карамзине и обнародования формулы «Подвиг честного человека» Пушкин как будто не очень развивает и углубляет обозначенные там гражданские и личные черты историографа. Порою даже вспоминаются прежние противоречия, столкновения. В письме к Плетнёву 21 января 1831 года Пушкин признается: «Карамзин под конец был мне чужд…» ( XIV, 147).
Исключение представляет не публиковавшаяся при жизни Пушкина запись одного из карамзинских парадоксов (включённая в незаконченную статью «Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений»): «Один из великих наших сограждан сказал однажды мне (он удостоивал меня своего внимания и часто оспоривал мои мнения), что если у нас была бы свобода книгопечатания, то он с женой и детьми уехал бы в Константинополь» ( XI , 167).
Речь шла об ограждении литературы от клеветы, о журнальных и литературных противниках.
Карамзин, никогда не отвечая на критику, находил в том наиболее подходящую, естественную форму личного достоинства. Пушкин, постоянно отвечая на критику, реализовал свою личность, свой темперамент.
Создаётся впечатление, что поэт не пропускает в 1830-х годах ни одного серьёзного повода для принципиальной полемики — с Булгариным, Надеждиным, Каченовским, Полевым, Орловым, Лобановым и многими другими журнальными оппонентами,— а по существу, косвенно ведёт диалог, подчас очень острый, и с куда более значительными персонами, в журналах не пишущими.
Карамзин был самим собою, публично не споря. Пушкин был Пушкиным, споря постоянно; в частности, споря — за Карамзина и его наследие. Эта борьба Пушкина имела огромное значение для судеб русской словесности.
Вот как об этом сказано в недавно написанной биографии поэта: «Пушкин прекрасно понимал, что будущее русской литературы непосредственно зависит от усилий его и его друзей. И если мы можем утверждать, что на всём протяжении существования русской литературы ей была свойственна атмосфера нравственной чистоты… Если литература сохранила в обществе свой нравственный авторитет, а читатель XIX века смотрел на писателя как на свою совесть, то в этом бесспорная историческая заслуга Пушкина, в этом значение его эпиграмм и полемических статей <���…> Это не только блестящие произведения Пушкина-художника, но и „подвиг честного человека“, одна из великих заслуг Пушкина перед историей русской культуры» [499].
Вопросы критики, «контркритики» — лишь одна из форм борьбы за независимость, достоинство.
Готовя во время болдинской осени ответы Булгарину и другим недоброжелателям, Пушкин не раз ссылается на свой интерес к прошлому, к традициям, в частности,— к истории своего рода, и гордится упоминанием Пушкиных на страницах «Истории…» Карамзина.
В 1832-м стихотворные строки о предках героя появляются в «Езерском» ( V, 100), откуда, в 1833-м, переходят в «Медный всадник» ( V, 138):
Прозванья нам его не нужно,
Хотя в минувши времена
Оно, быть может, и блистало
И под пером Карамзина
В родных преданьях прозвучало;
Но ныне светом и молвой
Оно забыто…
Одна из постоянных пушкинских тем — упадок достоинства, дворянского, человеческого; забвение прошлого, как форма потери самого себя (вспомним хотя бы фразу из неоконченной повести, написанной незадолго перед тем: «Карамзин недавно рассказал нам нашу историю, но мы едва ли вслушались» ( VIII, 42).
Ряд обращений к имени и делу Карамзина, как уже отмечалось, совпал у Пушкина с последним годом жизни; в 1836-м тема автора несколько отходит в тень: на первом плане — гражданин, частный человек, и это, конечно, неслучайно.
Поэт в ту пору сочиняет, но цензура запрещает статью «Александр Радищев» (1836) с тем интереснейшим эпиграфом, о котором уже говорилось: «Честному человеку не должно подвергать себя виселице. Слова Карамзина в 1819 году».
Читать дальше