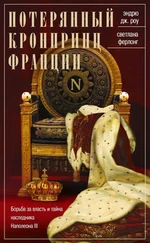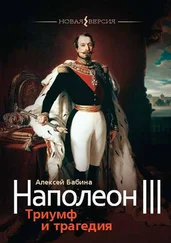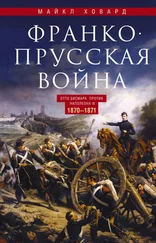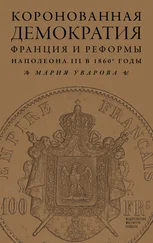Несмотря на законодательные ограничения и строгий правительственный контроль за тем, чтобы земства не выходили за пределы сугубо хозяйственной деятельности на местном уровне, в появившемся земском движении, постепенно приобретавшем либерально-оппозиционный характер, обозначилась тенденция к расширению сферы компетенции земских учреждений, к распространению принципов самоуправления на организацию высшей государственной власти. Именно этого с самого начала так опасались консерваторы, постаравшиеся до предела ограничить полномочия земства, что нашло свое отражение в «Положении» от 1 января 1864 г.
Указанная тенденция впервые проявилась в начале 1867 г., причем возмутителем спокойствия, подавшим пример остальным, выступило Петербургское земское губернское собрание. Конфликт столичного земства с правительством, начавшийся с вопросов выдачи торговых патентов, а также размеров местных налогов, отданных на усмотрение уездных и губернских собраний (центральные власти сочли земские сборы неоправданно завышенными), вскоре приобрел политическую окраску. На ежегодной сессии Петербургского земского губернского собрания (январь 1867 г.) ряд его наиболее либерально настроенных депутатов («гласных») подняли вопрос о расширении полномочий земства за пределы собственно хозяйственной деятельности и даже о распространении начал самоуправления на центральные органы власти.
Центральная власть не замедлила с ответом. На десятый день работы Петербургского губернского собрания последовал высочайший указ о прекращении его деятельности и роспуске. В указе достаточно четко была сформулирована и причина столь жесткого решения: «…Петербургское губернское собрание, с самого открытия своих заседаний, действует несогласно с законами, и вместо того, чтобы, подобно земским собраниям других губерний, пользоваться Высочайше дарованными ему правами для действительного попечения о вверенных ему местных земско-хозяйственных интересах, непрерывно обнаруживает стремление неточным изъяснением дел и неправильным толкованием законов, возбуждать чувства недоверия и неуважения к правительству» [820].
Но правительство этим не ограничилось. Одновременно была распущена губернская и все уездные земские управы Петербургской губернии, где было приостановлено действие Положения о земских учреждениях. Такая же судьба постигла и городскую думу Санкт-Петербурга. Вслед за этим к земцам была впервые применена карательная мера: председатель Петербургской губернской земской управы Н.Ф. Крузе был выслан в Оренбург.
Французский посол, внимательно следивший за ходом земской реформы, счел необходимым информировать Париж о развитии этого конфликта. В одной из депеш он описал открытие 16 января (н. ст.) сессии земского собрания Петербургской губернии под председательством гражданского губернатора графа Н.В. Левашова, который призвал гласных действовать в точном соответствии с предписаниями, содержащимися в регламенте земских собраний. Талейран отметил активную роль председательствовавшего на первом заседании графа Орлова-Давыдова, губернского предводителя дворянства. Характеризуя Орлова-Давыдова, Талейран подчеркнул, что молодые годы графа прошли в Англии и что он охотно афиширует свою симпатию к политическим нравам этой страны, не упуская случая, чтобы «высказать свои парламентские убеждения» [821]. Не упустил он такой возможности и при открытии сессии. Орлов-Давыдов ответил Левашову в том смысле, что земские депутаты – это посредники между властью и населением империи, интересы которого они представляют, и что уже по этой причине они должны иметь более широкие полномочия.
В конфликте, возникшем на сессии Петербургского земского собрания, барон Талейран усмотрел проявление борьбы либералов и консерваторов, великого князя Константина Николаевича и главы МВД П.А. Валуева, с одной стороны, и князя П.П. Гагарина, вице-председателя Государственного Совета, – с другой [822].
На данный момент, как констатировал Талейран, никто не может указать с полной определенностью на ту границу, которую определило для себя императорское правительство в проведении либеральных преобразований. «Мне чрезвычайно трудно… описать то состояние правительственного разлада, в котором в настоящее время находятся все политические группировки в России. Каждый констатирует болезнь, каждый может указать на нее, но когда речь заходит о выборе лекарства и способе его применения, как начинаются бесконечные дискуссии, возникают колебания и т. д.», – писал Талейран министру иностранных дел маркизу де Мустье. Далее он продолжал: «Для России была бы лучше, пусть, даже плохая, но последовательная система, чем это постоянное затягивание, которое не приносит никакой пользы. Здесь творится нечто непонятное: заведомо консервативно настроенные чиновники призваны проводить в жизнь ультрадемократические решения, а политические деятели, известные своими демократическими воззрениями, напротив, должны подписывать реакционные распоряжения. Среди этого хаоса идей редко можно встретить государственных мужей, способных противостоять критике с обеих сторон», – с сожалением констатировал Талейран [823].
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
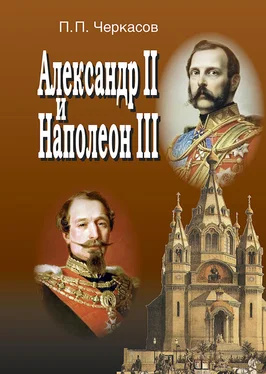
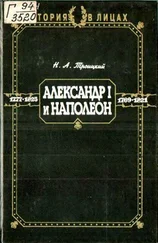
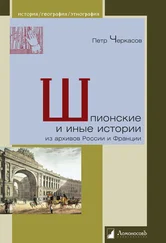

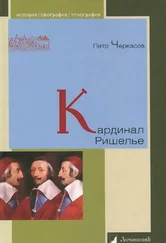
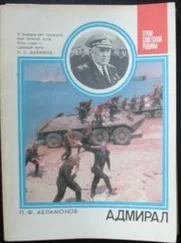
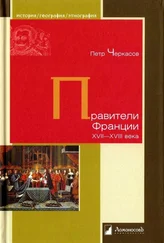
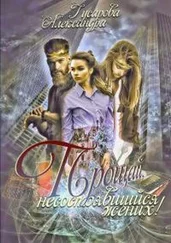
![Петр Мультатули - «Ледокол» для Наполеона [Лживый миф о «превентивной войне»]](/books/427799/petr-multatuli-ledokol-dlya-napoleona-lzhivyj-mi-thumb.webp)