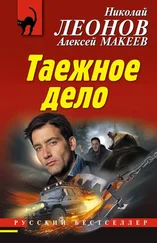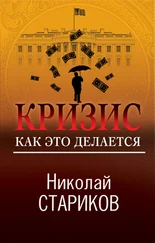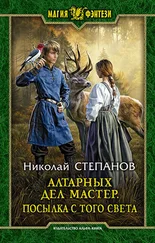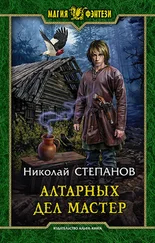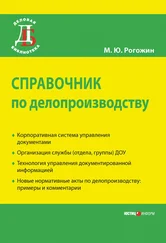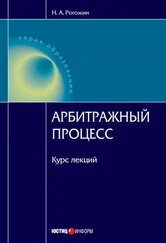Можно заключить, что в деятельности Посольского приказа в 1605–1606 гг. большинство трансформаций (восстановление связей с папским престолом, вступление царя в частную переписку, нарушения посольского церемониала), безусловно, произошло под непосредственным влиянием Речи Посполитой. Однако их инициатором был, по всей видимости, Лжедмитрий I, вернувшийся из Польши поклонником культуры и обычаев этой страны. Руководитель внешней политики России А.И. Власьев скорее всего не разделял симпатий своего государя: известно, что он с пренебрежением отзывался о римском папе [39] Костомаров-1994. С. 249
и был сторонником досконального соблюдения всех тонкостей московского дипломатического церемониала (чем вызвал насмешки во время своего пребывания в Польше). [40] Соловьев. Кн. IV. С. 423.
Таким образом, отдельные изменения в практике Посольского приказа, имевшие место в 1605–1606 гг. под влиянием Речи Посполитой, объяснялись пропольскими симпатиями Лжедмитрия I, а не назревшей потребностью частичного реформирования дипломатического ведомства Российского государства.
В правление царя Василия Шуйского (1606–1610) сколько-нибудь заметных изменений в работе Посольского приказа обнаружить не удаётся. Незначительные отклонения в российской дипломатической практике в этот временной промежуток были характерны для всей эпохи Смуты, а не только для царствования этого государя. Все эти изменения (начало нарушения связей между Московским государством и соседними державами, функционирование независимых от центрального правительства дипломатических ведомств, длительное принудительное задержание в Москве зарубежных посольств) – были результатом дезорганизации в деятельности посольской службы, следствием общей анархии в России начала XVII в. Персонал Посольского приказа не остался в стороне от событий разгоравшейся гражданской войны: большинство служащих приказа остались верны Василию Шуйскому, в то время как часть подъячих во главе с П.А. Третьяковым перешли на сторону «Тушинского вора». [41] Платонов-1937. С. 279.
Hecмотря на это, в деятельности московского дипломатического ведомства 1606–1610 гг. нельзя обнаружить новшеств, каковыми был богат предшествовавший период царствования самозванца. Напротив, царь Василий Иванович, стремясь подчеркнуть легитимность своей власти, в отличие от свергнутого им «расстриги» демонстрировал свое уважение к нормам посольского обычая, сложившимся при его предшественниках. Иногда это приводило к курьёзным случаям: в 1608 г. царь приказал спросить у польских послов Гонсевского и Олесницкого о здоровье короля Сигизмунда, чем вызвал их сильное раздражение (эти дипломаты на протяжении двух лет находились под домашним арестом в Москве и не получали никаких вестей с родины). [42] Юзефович. С. 113.
Самостоятельное и в значительной степени назидательное значение имеет так называемый период «междуцарствия», когда после свержения В.И. Шуйского на русский престол был избран польский королевич Владислав. Обстоятельства этого времени наложили свой отпечаток и на деятельность Посольского приказа. Избрание царём польского принца, стремление короля Сигизмунда III самому воцариться в Москве, пребывание в русской столице польского гарнизона, начальник которого А. Гонсевский фактически отстранил от власти боярское правительство, – всё это обусловило значительное польское влияние на работу российской дипломатической службы. В немалой степени распространению этого влияния способствовало то, что в августе 1610 г. печатником и судьёй Посольского приказа был назначен дьяк И.Т. Грамотин, за полгода до этого перешедший на службу к Сигизмунду III. Результатом сложившейся ситуации стало то, что в течение двух лет (с августа 1610 по август 1612 г.) Речь Посполитая оставалась фактически единственным внешнеполитическим партнёром Москвы. На протяжении этого времени из России в Польшу было направлено три посольства: «великое посольство» митрополита Филарета и князя В.В. Голицына (1610); М.Г. Салтыков-Морозов и князь Ю.Н. Трубецкой (1611); думный дьяк и печатник И.Т. Грамотин (1612). Характерно, что отношения между двумя государствами носили двусмысленный характер: польский королевич был избран русским царём, в то время как его отец вёл боевые действия на территории Российского государства. В подобной ситуации не могло быть и речи о равноправном диалоге между Россией и Польшей. Посольскому приказу приходилось лишь создавать видимость внешнеполитической самостоятельности Московского государства. Так, контакты между канцелярией Сигизмунда III и боярским правительством поддерживались в обход «великого посольства», официально представлявшего интересы России в королевском лагере под Смоленском. Ярким примером этого является хранящаяся в РГАДА грамота, отправленная в январе 1611 г. московскими боярами Сигизмунду III. В этом послании, дабы убедить польского короля в своей лояльности, бояре обещают оказать давление на своё собственное посольство, отказывавшееся ускорить капитуляцию Смоленска. [43] РГАДА. Ф. 79. Оп. 2. Д. 19.
Несколько месяцев спустя Посольский приказ не выразил сколько-нибудь серьёзного протеста по поводу интернирования членов «великого посольства» в Польшу.
Читать дальше
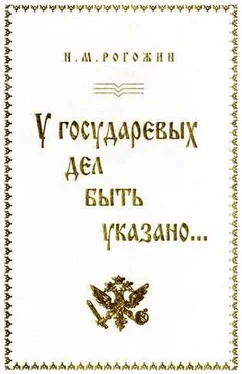


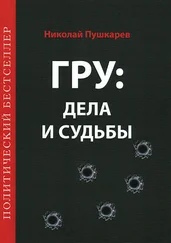
![Николай Степанов - Алтарных дел мастер [litres]](/books/392620/nikolaj-stepanov-altarnyh-del-master-litres-thumb.webp)