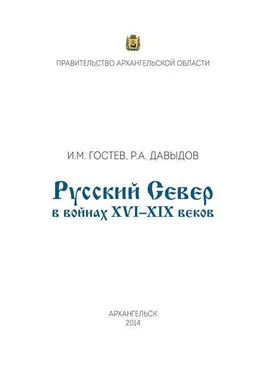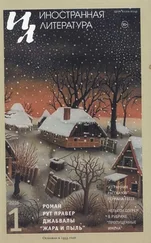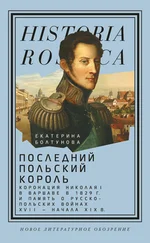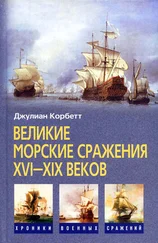Российские власти выделили денежные пособия пострадавшим жителям. С. П. Хрущов, сменивший Р. П. Боиля в должности архангельского военного губернатора, зимой 1855 г. посоветовал потерявшим свои жилища колянам, переехать в другие селения и уезды, или же с открытием навигации отправиться морем в Архангельск. Но жители Колы не спешили следовать этому совету, равно как не спешили возвращать выданные им ружья, прося оставить их для защиты своего обращенного в пепелище города [804]. Согласно исследованиям современного российского историка П. В. Федорова, лишь 31 семья, получив пособие, уехала тогда из Колы, но около половины уехавших потом вернулись [805].
Вот какой представлялась Кола в конце 1850-х — начале 1860-х гг. приезжающим чиновникам и туристам:
«Вид этого обширного пожарища с немногими уцелевшими домами и полуразрушенною каменною церковью производит грустное впечатление <���…>. Город вызжен почти весь; в самой середине его, на площади, одиноко стоят обгорелые стены каменной церкви; площадь эта есть правильный квадрат; она окружена обвалившимся рвом и признаками земляного вала (остатки бывшего Кольского острога). Позади церкви уцелели от разрушения: единственный во всем городе дом уездного казначейства и три обывательские деревянные дома. Этим строениям церковь служила защитою от неприятельских зажигательных снарядов. Уцелел еще правый конец города, называемый Верховье, состоящий из 12 или 15 ветхих лачуг, которые от действия неприятельской артиллерии защищены были выдающимся в виде мыса берегом реки. По обширным пожарищам в беспорядке разбросаны в разных местах наскоро сделанные вежи (землянки) и избушки, где нашли первый приют разоренные неприятелем бедные семейства. Лежащие в разных местах кучи бревен, срубы и начинающиеся постройки показывают, что Кола начинает поправляться после постигшей ее катастрофы» [806].
В 1858–1883 гг. территория Кольского уезда была присоединена к Кемскому. Кола в это время была заштатным городом, большая часть кольских чиновников и учреждений были переведены в г. Кемь [807].
После сожжения во время Крымской войны древняя «столица русской Лапландии» уже не смогла снова стать значимым центром притяжения административных, промышленных и коммерческих интересов [808]. Зато в 1890-х гг., сравнительно недалеко от Колы, благодаря энергичной поддержке архангельского губернатора А. П. Энгельградта и министра финансов С. Ю. Витте, был основан город Александровск (ныне Полярный — крупнейшая база Северного флота ВМФ России). В условиях уже другой войны, I мировой, в 1916 г. был основан город Романов-на-Мурмане (с 1917 г. — Мурманск). В наши дни Мурманск — областной центр и крупнейший незамерзающий морской порт России в Арктике, а Кола — его город-спутник. Не сдавшийся врагу, сожженный 160 лет назад, он возродился, как птица Феникс, из пепла.
ДЕСАНТЫ… ПОД БЕЛЫМ ФЛАГОМ
В годы Крымской войны основное внимание военной администрации Архангельской губернии было уделено организации обороны Архангельска — морского порта и крупнейшего в то время центра военного судостроения Российской империи, способного строить любые суда, в том числе линейные корабли, самые современные пароходы-фрегаты и паровые клипера. Действия, предпринятые для защиты Архангельска, как показали две навигации, оказались эффективными.
Определенные меры, но в значительной степени символические, были предприняты для защиты Соловецкого монастыря и приморских уездных городов Колы, Кеми, Онеги и Мезени. По большей части они свелись к поставке находящимся там малочисленным гарнизонам (в разные месяцы 1854 г. — примерно от 50 до 70 человек в каждом) дополнительных боеприпасов для ружей.
Что же касается довольно многочисленных русских поселений, расположенных на побережье Белого моря, то защитить их не было никакой возможности. Вероятно, это хорошо понимали и офицеры английской и французской эскадр, поскольку и в 1854, и в 1855 гг. они десятки раз высаживали вооруженные десанты на берега Белого моря. И почти всегда над десантом развевался белый парламентерский флаг [809]. В русских документах того времени этот флаг чаще всего назывался «переговорным», а в английском языке буквально «флагом перемирия» — «flag of truce».
Иностранные офицеры делали расчет на то, что русские не станут стрелять по людям, над головами которых развевается белое полотнище. Использование этой коварной и, скажем прямо, подлой тактики давало результаты. Стараясь высаживаться у прибрежных сел и деревень без выстрелов и не проявляя поначалу внешне агрессивных намерений, десятки вооруженных матросов и морских солдат [810]входили в них под белым флагом, не встречая сопротивления. Декларируемые ими через переводчиков заверения в дружбе и даже любви к русским, обещания щадить частную собственность еще более усыпляли бдительность жителей. Когда же десант приступал к грабежу и уничтожению казенных построек, не брезгуя при случае и крестьянским имуществом, чем-либо помешать им было уже невозможно. Только в 20-х числах июля (по старому стилю) 1854 г. с применением этой тактики были ограблены Кандалакша, Ковда и Кереть [811].
Читать дальше