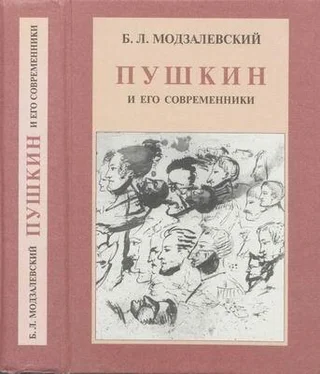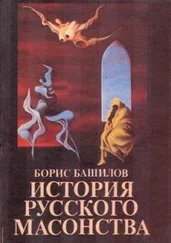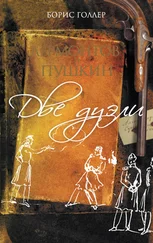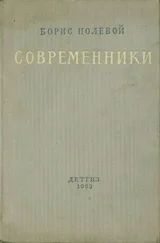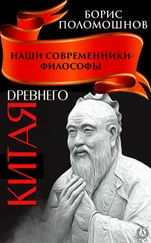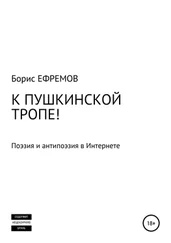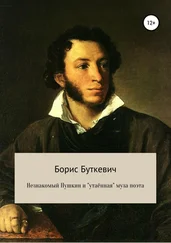Привязанность Пушкина к книге, очерченная выше несколькими собственными его показаниями и свидетельством лиц, его знавших, интересна, конечно, и сама по себе, как всё, что содействует выяснению черт многогранной души поэта; но она представляется достойной изучения в особенности по тому специальному значению, которое имеет в глазах исследователя, пытающегося по тому или иному поводу проникнуть в тайники творчества поэта.
Исследователю подчас прямо необходимо бывает знать, для правильности вывода, что именно читал он, имел ли он в своих руках то или другое сочинение, в какой мере был он знаком с ним, какие места книги остановили на себе его внимание и т. п. Ещё в 1855 г. А. В. Дружинин, говоря в статье своей «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений» [974]о том, что «поэт читал много, читал с наслаждением, выписывая запасы книг из Петербурга и нетерпеливо поджидая их прихода», что «он задумывался над прочитанным, делал отметки на страницах, выписывал в особые тетради то, что ему особенно нравилось», и что только что изданные «Материалы» Анненкова несколько бедны указаниями по этой части, — писал: «Библиотека Пушкина не могла пропасть без следа. Сведения о любимых книгах Александра Сергеевича, изложение его заметок со временем будут собраны, — в этом мы твёрдо уверены. Странно думать, что мы можем по месяцам проследить за ходом чтения англичанина Соути и знаем так мало о том, что читал и любил читать поэт, которым гордится наше отечество. Указания подобнаго рода потому ещё будут полезны, что сокрушат вконец разные остатки теорий о непосредственности талантов и чистой художественности, будто бы не ладящей с изучением великих образцов. Между нашими литературными предрассудками один ещё не вырван с корнем, — это предрассудок о малом значении труда. Не один литератор нашего времени готов обидеться, если ему придадут эпитет трудолюбивого».
Времена изменились: трудолюбие не ставится теперь в упрёк писателю-художнику, а что касается вопроса о «непосредственности талантов и чистой художественности», то Дружинину, быть может, пришлось бы теперь бороться с другою крайностью — стремлением некоторых исследователей находить зависимость одного литературного произведения от другого даже там, где для установления этой зависимости нет никаких оснований, кроме чисто внешних, незначительных признаков, вроде совпадения отдельных мыслей, слов и выражений… Как бы то ни было, вопрос о составе пушкинской библиотеки неоднократно останавливал на себе внимание биографов и исследователей различных сторон жизни и творчества поэта. Первый шаг к разрешению этого вопроса сделал покойный Л. Н. Майков. Получив от А. А. Пушкина принадлежавший его отцу экземпляр «Опытов» Батюшкова (изд. 1817 г.) и вполне правильно оценив значение сделанных поэтом на полях книги критических замечаний [975], Леонид Николаевич начал переговоры с потомками Пушкина о предоставлении ему возможности ознакомиться и со всею библиотекой поэта. О ней ходили самые разнообразные слухи, но оказалось, что библиотека эта, после долгих странствований [976], нашла себе окончательный приют в сельце Ивановском, Бронницкого уезда Московской губернии — имении внука поэта, местного предводителя дворянства, камер-юнкера Александра Александровича Пушкина. Переписка Л. Н. Майкова с ним началась ещё в 1899 г., вскоре после юбилейных Пушкинских дней, а в апреле 1900 г. Леонид Николаевич, получив уже разрешение на командирование автора этих строк в с. Ивановское, — скончался… Налаженное дело чуть было совсем не остановилось, но Отделение русского языка и словесности, которому были известны намерения покойнаго Леонида Николаевича, постановило командировать нижеподписавшегося за библиотекой, благо со стороны владельцев её не было против этого возражений.
Приехав в сельцо Ивановское в сентябре 1900 г., я встретил со стороны А. А. Пушкина самый радушный приём и полное содействие выполнению моей задачи. Библиотека оказалась в довольно плачевном состоянии: многие книги были попорчены сыростью и мышами, многие были помяты или растрёпаны; спешно она была разобрана (отделены были все случайно попавшие в неё книги, изданные после 1837 г., как очевидно не принадлежавшие поэту), уложена в тридцать пять ящиков и отправлена до станции Бронниц на подводах, а затем — по железной дороге. В Петербург книги были доставлены 1 октября [977]и временно помещены в одной из комнат славянского отделения Библиотеки Академии наук, где и производилось затем постепенное их описание. Таким образом, библиотека Пушкина, свыше шестидесяти лет странствовавшая с места на место и подвергавшаяся всевозможным случайностям, снова, хотя, конечно, и не в полном уже виде, вернулась в Петербург, — на этот раз уже навсегда.
Читать дальше