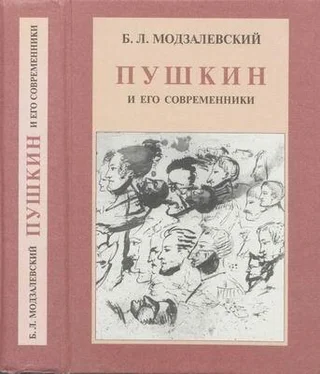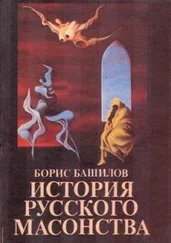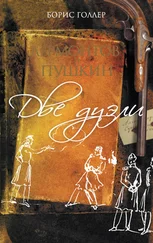Каждый сочиняющий знает, что часто казавшееся невозможным вчера делается лёгким сегодня, и что всё зависит от минуты и расположения. В одно такое время, прошлою осенью, я стал перечитывать мою пьесу, соображаясь со сделанными мне замечаниями и стараясь смотреть на всё такими глазами, как бы я сам был ценсором чужого сочинения. В два или три дня я исправил мою трагедию так, как, по моему мнению, она могла уже быть пропущена. При этом я должен с благодарностью сказать, что некоторые замечания г. ценсора послужили к значительному даже улучшению моей пьесы.
Тою же осенью прошлого года приехал я сюда, в намерении показать сделанные мною поправки Петру Александровичу и, в случае его одобрения, снова представить пьесу Вам. Но как Ваше Сиятельство, так и Пётр Александрович — были в отсутствии. Не думав, чтобы случай привёл меня опять в скором времени быть в Петербурге, я показал мою рукопись, прежде также частным образом, г. ценсору Евстафию Ивановичу Ольдекоп, передав ему с полною добросовестностью о том, какому суду она подверглась в прежнем своём виде, и при этом случае изложив ему мой собственный взгляд на моё сочинение. Экземпляр был самый тот же, который находился у Вашего Сиятельства. Он её прочитал, — и вот его слова, как они мне помнятся: «Я не знаю, в каком виде была Ваша трагедия прежде; ни князя, ни Петра Александровича я, в настоящее время, по их отсутствию, спросить не могу. Я вижу, однако же, по самой рукописи, что Вы сделали перемены, и теперь, соглашаясь с Вашим взглядом на сочинение, считаю, что пропустить его можно, ежели Вы сделаете ещё исправления в некоторых, обозначенных мною, местах». Я сделал поправки и на другой же день привёз их к нему. Но он, всё ещё останавливаясь прежде высказанными мнениями как Вашего Сиятельства, так и Петра Александровича, просил меня, для большей осторожности, отнестись к г. исправляющему тогда должность попечителя — князю Григорию Петровичу Волконскому. Я тот же час поехал к князю, объяснил ему все обстоятельства дела и, в отсутствии Вашего Сиятельства, просил его покровительства. Вскоре после того пьеса получена мною уже одобренною к печати.
Изложив далее свой взгляд на положительную нравственную силу, заключающуюся даже в такой пьесе, в которой выставлены отрицательные типы, Великопольский рисует перед князем Дондуковым-Корсаковым характеристики действующих лиц его трагедии:
В моей пьесе лицо Янетерского есть тот характер, около которого обвивается окружающая жизнь. Он есть камертон, по которому настроена пьеса и по которому должно её поверять. Он — сын порочной любви. Его отец мог ли быть иначе выведен, как развратником; его мать — иначе, как презрительною [sic] женщиной? Поэтому — та скрытая безнравственность в словах и поступках Глуминцева, хотя в полной мере обладающего чувством светской чести… Верный слуга государю и отечеству, справедливый человек, рыцарь чести по светскому понятию этого слова, он пользуется общим уважением и заслуженно обращает на себя внимание всех и — свыше; но вместе с тем заражённый внутренним, невидимым свету развратом, он ни разу в нём не раскаивается, он сжился с ним, составляет с ним одно, — и тем его характер остаётся верен самому себе, наводя на себя в то же время нравственное пятно. Оттуда же истекает и цинизм лица Стешневой. Но вникните в этот цинизм. Стешнева выведена здесь уже почти старухой. Развратные примеры и научения матери, сластолюбие, в которое она погрузила её почти от рождения, усвоились ею. Она потеряла стыд и является вакханкою, обвитою цветами и виноградом, эмблемою порочных радостей и упоений жизни. Но это вакханка уже покинутая, которая, в неистовых своих песнях, уже только напоминает себе прежнее, между тем как превратности жизни, опытность и морщины заставляют её внутренно чувствовать всю презрительность [sic] своего положения и не закрывать наготы потому только, что она к ней привыкла. Она выкупает заблуждение молодости слезами всей своей жизни; порок разврата, уже наказанный в ней, исчезает в несчастном материнском чувстве, которым наполнены все её последние дни; а потому она имеет права на сострадание. Лиза — обманывающая мужа распутница [692]. Читатель, может быть, хотел бы её выкинуть из пьесы, как негодную траву; но она в пьесе потому, что находится в жизни, и этот в читателе порыв её выбросить есть то чувство, которое делает характер безнравственный литературно-нравственным. Злодейство мужа её Петра, доведённого её поведением и низким поступком Глуминцева до горячки мстительной жажды [693], есть следствие нравственного наблюдения того, до чего могут обстоятельства довести человека. К нему нет в пьесе презрения, но есть ужас и сожаление, как к человеку больному, — сожаление, носящее в себе вместе и осуждение… Княгиня [Ситская] представляет собою образец дамы высокого общества, которая под блеском имени и положения своего в свете скрывает свои пятна. Её дочь — прекрасных душевных свойств девица, но подвластная предрассудкам общества. Я очень был бы счастлив, если б характер гувернантки предостерёг хотя одну нежную мать, занимающуюся воспитанием дочери. Возвышенные поступки уже покойного Терского держат на себе общее уважение драмы… Все прочие лица — побочные: они выведены в пьесе, как предметы жизни, вошедшие в объём картинной рамы, — лица сторонние, но без которых ландшафт был бы не полон…
Читать дальше