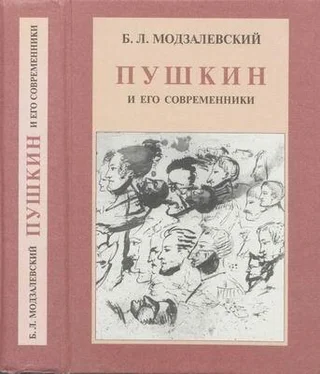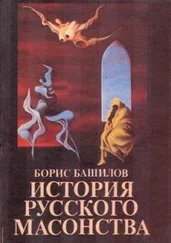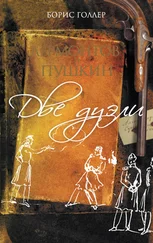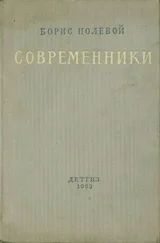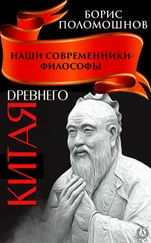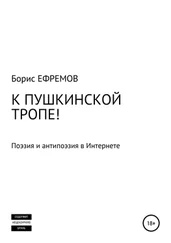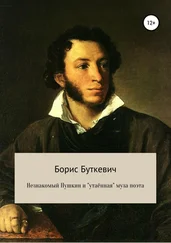«Я и мои трое детей чувствуют себя хорошо, — пишет она через полгода, — но мне грустно по случаю отъезда моего шурина Евгения и его семейства: они уехали надолго в Москву, оставив у нас большую пустоту. Настя (моя невестка), может быть, возымеет надобность сообщить мне о вещах, которые она не хотела бы высказывать открыто, из боязни, чтобы их не узнал кто-либо из здешних членов нашего семейства. Для большей безопасности я обещала ей поэтому (зная твою дружбу), что она может иногда адресовать свои письма к тебе, причём я уверена, что ты не откажешься взять на себя труд переслать их ко мне в твоих пакетах, — никому и в голову не придёт, что в конверте, носящем на себе почерк неизвестного лица, находится ещё Настино письмо, посланное таким длинным путём…» [532]
Восемнадцатого июля Софья Михайловна уже благодарила подругу за пересылку к ней письма Настасьи Львовны Боратынской; осторожность её в чужой семье доходила до того, что она «сжигала каждое письмо, едва прочитав его». «Я свято сохраняю эту принятую на себя обязанность по отношению ко всем, кто переписывается со мною под этим условием». Из письма от 16 января 1835 г. узнаем, что у А. Н. Карелиной родилась в конце 1834 г. дочь Елизавета, а у С. М. Боратынской, 22 декабря, — дочь Софья, которую, по слабости здоровья, она не решилась кормить сама и взяла кормилицу. «Я боялась сухотки, тем более что маменька моя этой болезнию скончалась», — объясняла она [533].
На большом и очень дружеском письме Софьи Михайловны от 20 января 1837 г. переписка подруг прекратилась уже навсегда, — ни одного за более позднее время в архиве Боратынских не сохранилось. В этом есть что-то провиденциальное: пока письмо Софьи Михайловны шло в Оренбург, пресеклись дни жизни Пушкина, — того человека, пламенными поклонницами которого с юных дней были обе подруги. С этого момента они как будто потеряли остаток молодого энтузиазма, который так свойствен был им обеим…
Мы мало знаем о дальнейшей жизни Боратынской и Карелиной. О том, как прожила свою дальнейшую жизнь Софья Михайловна, мы уже однажды рассказывали [534]и здесь повторяться не будем. Скажем лишь, что общим своим обликом она, по-видимому, подходила под тот тип женщин, который так нравился Пушкину и другим мужчинам той эпохи. Она отнюдь не была «причудницей большого света», которых так рано оставил и Онегин, находя современный ему высший тон «довольно скучным». Вспомним, как описывал Пушкин этих «причудниц»:
Хоть может быть иная дама
Толкует Сея и Бентама;
Но вообще их разговор —
Несносный, хоть невинный вздор.
К тому ж оне так непорочны,
Так величавы, так умны,
Так благочестия полны,
Так осмотрительны, так точны,
Так неприступны для мущин,
Что вид их уж рождает сплин [535].
С. М. Дельвиг-Боратынская была женщиной противоположных качеств ума и души, — вот чем она нравилась и Пушкину, и Дельвигу, и Боратынскому, и Вульфу, и многим другим её поклонникам…
Что касается А. Н. Карелиной, то судьба дала ей в удел, по-видимому, столь же долгие годы, как и её подруге: родившись в 1808 г. в день Благовещения, она была жива ещё в 1885 г. [536], вдовела она с 1872 г. и проживала в своём имении — сельце Трубицыне, Московского уезда, в 38 верстах от Москвы по Ярославскому тракту, близ станции Пушкино, вместе с незамужнею дочерью своею Софьею Григорьевною — крестницею С. М. Дельвиг; С. Г. Карелина была жива ещё в 1913 г., жила в том же Трубицыне, имея уже восемьдесят семь лет от роду; сестра её, Елизавета Григорьевна (1834—1902), была замужем за известным ботаником и общественным деятелем профессором Андреем Николаевичем Бекетовым; дочь последних — Александра Андреевна — была матерью поэта Александра Блока.
10 X 1925
И. Е. Великопольский (1797—1868) [537]
Настоящий историко-биографический очерк, посвящённый рассказу о жизни, трудах и злоключениях одного из малоизвестных писателей наших, был начат мною по указанию Л. Н. Майкова, который советовал мне заняться собиранием и разработкой сведений о лицах, имевших то или иное отношение к Пушкину. Одобрительно отнесшись к составленному мною, по его же указанию, биографическому очерку Я. Н. Толстого [538], Леонид Николаевич вверил моим попечениям другого знакомца Пушкина — Ивана Ермолаевича Великопольского, которому наш гениальный поэт в 1826 г. написал послание. Об этом писателе в нашей литературе не оказалось никаких сведений, если не считать одного небольшого некролога, написанного, по всей вероятности, его приятелем В. Р. Зотовым и помещённого в «Иллюстрированной газете» 1868 г. [539], двух известий о смерти в газетах [540]да составленных по ним кратких заметок в «Словаре» Г. Н. Геннади и в «Источниках словаря русских писателей» С. А. Венгерова. Но счастливый случай дал мне возможность познакомиться с дочерью Ивана Ермолаевича — Надеждою Ивановной Чаплиной, которая с редкою любезностью прислала ко мне из с. Чукавина, Старицкого уезда Тверской губернии, все сохранившиеся бумаги своего отца [541], а также сообщила мне свои о нём воспоминания, которыми я и буду пользоваться как материалом.
Читать дальше