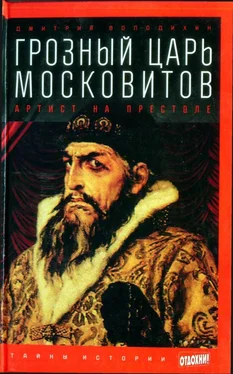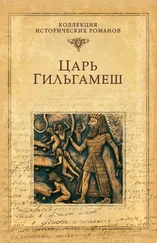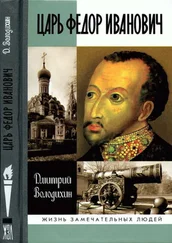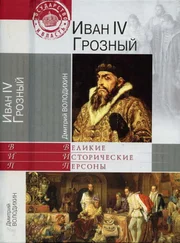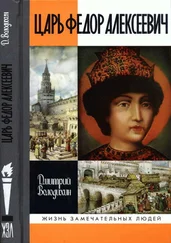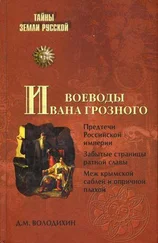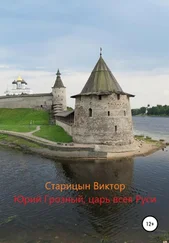В начале ее регентства дядя Ивана Васильевича, удельный князь Юрий Иванович Дмитровский повел странные переговоры с князем Андреем Михайловичем Шуйским. Оба они, покуда прямой наследник великого князя был мал и не способен за себя постоять, могли выступить претендентами на престол: первый — брат Василия III, а второй — аристократ исключительной знатности. Об особом положении Шуйских советский историк Г. В. Абрамович писал следующее: «Князья Шуйские выделялись среди московской знати… родовитостью. Будучи, как и московские великие князья, потомками великого князя Владимирского Ярослава Всеволодовича, они считались принцами крови, то есть персонами, имеющими право на великокняжеский престол в случае вымирания Московского рода». В 1606 году, когда на российский престол взойдет князь Василий Иванович Шуйский, у него будут на это все генеалогические основания.
Но в 1530-х дело обернулось иначе…
По приказу Елены Глинской князя Юрия Дмитровского отправили в темницу, где он и умер через несколько лет «на чепи и в железах». Князя Андрея Михайловича Шуйского арестовали, но он, хотя был, как показывает летопись, ведущей фигурой в мятежных настроениях, отделался легко. Наконец, другой брат покойного Василия III, удельный князь Андрей Иванович Старицкий, летом 1537 года попытался захватить Новгород и едва не вступил в прямое вооруженное столкновение с войсками Елены Глинской. Во главе правительственной армии встал князь Иван Федерович Телепнев-Оболенский. Мятеж был подавлен, а некоторые крупные фигуры, вставшие на сторону Старицкого, казнены. Сам удельный князь Андрей Иванович оказался узником, а затем умер «в нуже и страдальческою смертью». Это произошло в декабре 1537 года. Наиболее влиятельный представитель рода Глинских, как уже говорилось, также отправился в заточение. Некоторые другие аристократы попали в опалу.
Трудно определить, до какой степени братья Василия III на самом деле стремились занять престол и затевали мятежи. Их активность во многом явилась ответом на жесткие превентивные меры Елены Глинской и ее партии. Великая княгиня опасалась за судьбу малолетних сыновей, поэтому избрала курс радикального подавления всех политических противников, в том числе потенциальных. В этом смысле характер ее правления напоминает образ действий Екатерины Медичи. Великая княгиня, словно птица, пыталась укрыть двух сыновей крыльями и готова была биться за них с любым врагом до смерти. В конечном итоге Елена Глинская достигла своей цели. Но после всех принятых регентшей истребительных мер московская знать не имела ни малейшего повода относиться к ней мало-мальски доброжелательно.
Через много лет князь Андрей Михайлович Курбский, изменивший Ивану IV, передаст мнение большого пласта русской аристократии на этот счет в нескольких фразах: «…посеял дьявол скверные навыки в добром роде русских князей, прежде всего, с помощью их злых жен-колдуний. Так ведь было и с царями Израиля, особенно когда они брали жен из других племен». И далее, обращаясь к Ивану Васильевичу: "Ведь отец твой и мать — всем известно, сколько они убили". В суждении князя Курбского содержится намек на жен Ивана III — Елену Волошанку и Софью Палеолог, а также на супругу Василия III Елену Глинскую.
Поэтому, даже если великая княгиня после кончины мужа вела чистую и праведную жизнь, за ней повсюду и во всем следовал шлейф недоброжелательства. Надо полагать, это отношение хотя бы отчасти перенесено было и на ее сына. Отсюда разговоры о "незаконнорожденном" наследнике престола, о тайном "истинном" первенце Василия III.
Чувствовал ли будущий царь подобное к себе отношение? Очевидно, да. И наверное, едва спрятанное презрение к наследнику и злая память о его матери подпитывали в мальчике трагический взгляд на мир. Заставляли его вглядываться в лица приближенных с подозрением: не таишь ли ты, слуга неверный, пакости на уме? как ты смотришь на меня? смеешь оценивать меня?
Разве на станет такой человек искать признания — не только полной законности своей власти, но и силы своей, ума, мощи? С детских лет ощущая скверну в отношениях с первейшими вельможами, представителями аристократической элиты, даже в умудренной зрелости трудно найти источники для психологического покоя и умиротворения.
Невозможно проверить, кто был настоящим отцом Ивана Васильевича, да и недостойное дело пытаться подглядеть семейные тайны далекого прошлого через замочную скважину. В этой истории гораздо важнее другое. Ситуация 1530-х годов позволяла русской аристократии строить планы на повышение ее роли в управлении государством или даже о смене правящей династии. После смерти двух братьев Василия III оставался еще один серьезный претендент на трон — князь Владимир Андреевич Старицкий, сын князя Андрея Ивановича. За его спиной стояла мать, княгиня Ефросинья — особа энергичная и к тому же имевшая причины ненавидеть малолетнего государя из-за смерти супруга и унижения семьи Старицких.
Читать дальше