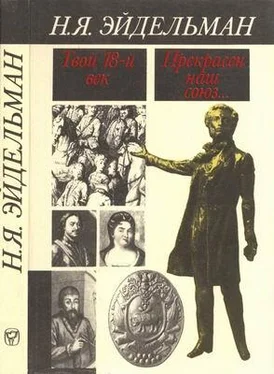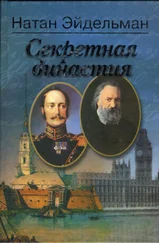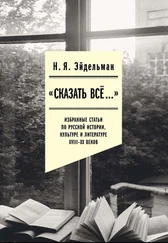Пушкин жил на Мойке, в нижнем этаже дома Волконского. У подъезда Пушкин просит Данзаса выйти вперёд, послать людей вынести его из кареты, и если жена его дома, то предупредить её и сказать, что рана неопасна. В передней люди сказали Данзасу, что Натальи Николаевны не было дома, но, когда Данзас сказал им, в чём дело, и послал их вынести раненого Пушкина из кареты, они объявили, что госпожа их дома. Данзас через столовую, в которой накрыт уже был стол, и гостиную пошёл прямо без доклада в кабинет жены Пушкина. Она сидела со своей старшей незамужней сестрой Александрой Николаевной Гончаровой. Внезапное появление Данзаса очень удивило Наталью Николаевну, она взглянула на него с выражением испуга, как бы догадываясь о случившемся.
Данзас сказал ей сколько мог покойнее, что муж её стрелялся с Дантесом что хотя ранен, но очень легко.
Она бросилась в переднюю, куда в это время люди вносили Пушкина на руках…
Перед вечером Пушкин, подозвав Данзаса, просил его записывать и продиктовал ему все свои долги, на которые не было ни векселей, ни заёмных писем.
Потом он снял с руки кольцо и отдал Данзасу, прося принять его на память.
Вечером ему сделалось хуже. В продолжение ночи страдания Пушкина до того усилились, что он решился застрелиться. Позвав человека, он велел подать ему один из ящиков письменного стола; человек исполнил его волю, но, вспомнив, что в этом ящике были пистолеты, предупредил Данзаса.
Данзас подошёл к Пушкину и взял у него пистолеты, которые тот уже спрятал под одеяло; отдавая их Данзасу, Пушкин признался, что хотел застрелиться, потому что страдания его были невыносимы…»
Туда, в толпу теней родных…
И где мне смерть пошлёт судьбина?
В бою ли, в странствии, в волнах?
Или соседняя долина
Мой примет охладелый прах?
И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне всё б хотелось почивать…
Последней просьбой смертельно раненного поэта было — чтобы не наказывали секунданта, лицейского друга Константина Данзаса — «ведь он мне брат».
«Как жаль, что нет теперь здесь ни Пущина, ни Малиновского»,— сказал умирающий Пушкин Данзасу.
Фёдор Матюшкин, моряк, капитан 1-го ранга, из Севастополя: «Пушкин убит! Яковлев! Как ты это допустил? У какого подлеца поднялась на него рука? Яковлев, Яковлев! Как мог ты это допустить?»
Действительно, как допустили? Иван Пущин до конца дней был уверен, что, живи он в столице, не допустил бы: «Если бы при мне должна была случиться несчастная его история… я бы нашёл средство сохранить поэта-товарища, достояние России».
Близкие друзья в Петербурге не сумели ничего предотвратить — они любили Пушкина, но, наверное, надо было ещё сильнее любить, как Матюшкин, Пущин.
«Знакомых тьма ,— а друга нет!»
Пройдут недели, и в петровскую каторжную тюрьму возвратится из петербургской командировки один из служащих там, плац-адъютант Розенберг: Пущин давал ему разные письма и поручения к родным и, естественно, «забросал вопросами»:
«Отдав мне отчёт на мои вопросы, он с какой-то нерешительностью упомянул о Пушкине. Я тотчас ухватился за это дорогое мне имя: где он с ним встретился? как он поживает? и пр. Розенберг выслушал меня в раздумье и, наконец, сказал: „Нечего от вас скрывать. Друга вашего нет! Он ранен на дуэли Дантесом и через двое суток умер; я был при отпевании его тела в Конюшенной церкви, накануне моего выезда из Петербурга“.
Слушая этот горький рассказ, я сначала решительно как будто не понимал слов рассказчика,— так далека от меня была мысль, что Пушкин должен умереть во цвете лет, среди живых на него надежд.
Это был для меня громовой удар из безоблачного неба — ошеломило меня, а вся скорбь не вдруг сказалась на сердце.— Весть эта электрической искрой сообщилась в тюрьме — во всех кружках только и речи было, что о смерти Пушкина — об общей нашей потере, но в итоге выходило одно: что его не стало и что не воротить его!»
Тогда же, в петровской тюрьме, зашёл спор — что стало бы с поэтом, если б он участвовал в заговоре и восстании 14 декабря?
Одни, среди них Сергей Волконский, находили, что Пушкин остался бы жив, и пусть в Сибири, но написал бы новые, замечательные творения. Однако «первый друг», надо думать, лучше знал и чувствовал Пушкина: как ни горько было ему, но он утверждал, что десять-одиннадцать лет свободы, пусть неполной, призрачной, под надзором властей, но всё же свободы,— единственный путь для пушкинского таланта; что здесь, в Сибири, вольному поэту не выжить:
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу