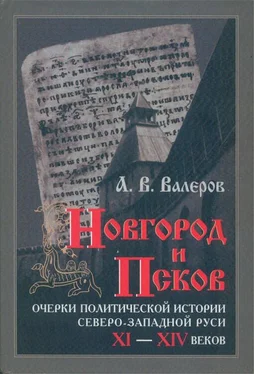Таким образом, именно церковные торжества стали причиной приезда Ярослава во Псков. Вряд ли это может свидетельствовать в пользу мнения о произошедшем в 1192 г. новгородско-псковском конфликте. Скорее всего, как раз этот визит и описан в Новгородской Первой летописи, но, как мы видели, новгородский книжник по-своему переосмыслил события. Объяснение данному факту, очевидно, кроется в неприязненном отношении новгородцев к любому напоминанию о псковской независимости, олицетворением которой в те времена и было имя первого псковского князя Всеволода Мстиславича.
А.С. Хорошев противопоставляет известия о приезде Ярослава во Псков и о перенесении мощей Всеволода Мстиславича, полагая, что первый был вызван именно торжествами, устроенными псковичами с целью демонстрации и подтверждения собственного суверенитета; получается, будто бы визит новгородского князя должен был снивелировать значимость акта апелляции Пскова к общинным церковным святыням [519].
В отличие от А.С. Хорошева, мы не видим в поездке Ярослава проявлений обострения новгородско-псковских взаимоотношений. Как уже говорилось, посещение Пскова новгородским князем, наоборот, означало заинтересованность Новгорода в поддержании военного союза со Псковом.
Сам факт канонизации во Пскове в 1192 г. князя Всеволода Мстиславича и перенесение его мощей в заново отстроенный Троицкий собор, равно как и устроенные по этому поводу церковные торжества, противоречат мнению о политической зависимости Пскова от Новгорода. Обретение мощей Всеволода имело важное идеологическое значение. Псковичи еще раз заявили о суверенитете своей городской общины. В данном контексте следует рассматривать и факт поминания во Пскове новгородского архиепископа Ивана Попьяна, занимавшего владычную кафедру с 1110 г. по 1130 г.
В.Л. Янин, а вслед за ним и А.С. Хорошев, аргументированно показали, что произошедшее в 1130 г. «отверженье» Ивана Попьяна от архиепископства было связано с внутриновгородским конфликтом, закончившимся изгнанием из Новгорода в 1136 г. князя Всеволода Мстиславича, чьим другом и соратником был Иван [520]. В связи с этим в списке новгородских святителей, помещенном в Новгородской Первой летописи, рядом с именем Попьяна стоит фраза: «сего не поминают» [521]. Таким образом, даже упоминание об архиепископе Иване в Новгороде было запрещено. Между тем во всех псковских синодиках обнаруживается имя опального Попьяна [522]. Следовательно, Иван Попьян почитался во Пскове вопреки желаниям новгородцев. Псковичи вновь, как и в случае с князем Всеволодом Мстиславичем, выразили сочувствие политическому деятелю, изгнанному (или не принятому) в Новгороде, чем Псков, безусловно, противопоставлял себя Новгороду в качестве лидирующего городского центра в Северо-Западной Руси. Вероятно, включение в число местных псковских святых Всеволода Мстиславича и церковное почитание Ивана Попьяна — явления, сопоставляемые как по хронологии, так и по своему значению. Суверенитет Пскова требовал подобного идеологического подкрепления.
Обретение мощей князя Всеволода и связанная с этим церемония могли вызывать раздражение и негативную оценку у новгородцев. Однако разрушения Новгородско-Псковского военного союза не произошло. Взаимные политические интересы были сильнее идеологических демаршей друг против друга. Вот почему в начале XIII в. мы видим псковичей и новгородцев действующими совместно в военных походах в прибалтийские земли. Новгородские летописи неоднократно упоминают имена псковских князей, участвовавших в военных экспедициях наряду с князьями Новгорода [523].
Данное обстоятельство позволило многим исследователям, особенно дореволюционного периода, говорить о практике направления новгородских ставленников во Псков, а следовательно, и о псковской зависимости от Новгорода. Подобным образом рассуждали Н.И. Костомаров, А.И. Никитский, И.Д. Беляев. Например, находим у названных авторов рассуждения о том, что «при назначении князей во Псков (из Новгорода. — А.В. )… псковичи принимали последних с любовью» [524], или даже, что «псковичи решительно запутались в раздоры новгородских партий… и сделались орудием… противников суздальским князьям, так что эта партия… заправляла всеми псковскими делами» [525].
Советские исследователи размышляли схожим образом. А.Н. Насонов также рассматривал новгородско-псковские походы на чудь в конце XII — начале XIII в. в связи с «переходом Пскова в руки новгородцев» [526]. Более осторожен в своих оценках С.А. Афанасьев, но и он пишет лишь о «набирающем силу процессе обособления Пскова от Новгорода в начале XIII в.», что выражалось в завоевании псковичами права изгонять неугодных князей, как это было, например, в 1213 г. в отношении Владимира Псковского [527].
Читать дальше