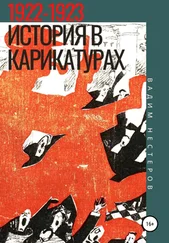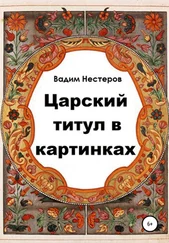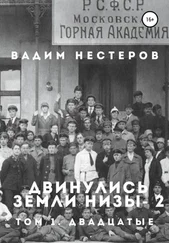"Было бы ошибочным придавать обвиняемому или подсудимому, вернее, их объяснениям, большее значение, чем они заслуживают этого как ординарные участники процесса. В достаточно уже отдаленные времена, в эпоху господства в процессе теории так называемых законных (формальных) доказательств, переоценка значения признаний подсудимого или обвиняемого доходила до такой степени, что признание обвиняемым себя виновным считалось за непреложную, не подлежащую сомнению истину, хотя бы это признание было вырвано у него пыткой, являвшейся в те времена чуть ли не единственным процессуальным доказательством, во всяком случае, считавшейся наиболее серьезным доказательством, «царицей доказательств» (regina probationum)"
Или вот еще — в той же книге:
"…Этот принцип совершенно неприемлем для советского права и судебной практики. Действительно, если другие обстоятельства, установленные по делу, доказывают виновность привлеченного к ответственности лица, то сознание этого лица теряет значение доказательства и в этом отношении становится излишним. Его значение в таком случае может свестись лишь к тому, чтобы явиться основанием для оценки тех или других нравственных качеств подсудимого, для понижения или усиления наказания, определяемого судом".
Или даже вот, оттуда же:
"Такая организация следствия, при которой показания обвиняемого оказываются главными и — еще хуже — единственными устоями всего следствия, способна поставить под удар все дело".
Все это как-то плохо вяжется с декларированным тезисом, не находите?
Но может быть это только теория, а на практике, выступая на судебных процессах, Андрей Януарьевич строил обвинения на выбитых следователями признаниях?
Обращаемся к сборнику А.Я. Вышинского «Судебные речи» (4-е изд., М., 1955) и что мы там видим?
Да все то же самое его любимое выражение:
«…Мы имеем перед собой такой факт, как собственное признание ряда людей. Это могло бы освободить в иных случаях вообще от исследования каких бы то ни было других доказательств. Мы знаем, что по процессуальному праву и любого капиталистического государства, и в частности по процессуальному праву Англии, одно только сознание обвиняемого перед судом даёт право суду не производить никакого судебного следствия. … Но в буржуазном праве этот принцип — не случаен. В буржуазных странах продолжает царить старое средневековое представление о значении и качестве доказательств, среди которых личное сознание обвиняемого считалось лучшим, считалось «царицей всех доказательств».
Возникает резонный вопрос — откуда же появился этот стереотип о Вышинском как лоббисте чистосердечного признания? Ведь эту псевдоцитату кто только не использовал…
"Председательствующий Вышинский вполне удовлетворен логикой главного обвинителя. Это же его главная идея — признание подсудимого и есть царица доказательств" (Л. Млечин. "КГБ. Председатели органов госбезопасности. Рассекреченные судьбы")."
Идеи Хозяина Вышинский научно изложил в своих многочисленных сочинениях. "Признание обвиняемого и есть царица доказательств" — так сформулировал он основной принцип судопроизводства страны социализма" (Э. Радзинский. "Сталин. Вся жизнь").
Вот только самую первую цитату обычно найти практически невозможно. Но в данном случае нам повезло — Дмитрий Куролесов в своей работе "Правда о сталинском прокуроре" все-таки докопался до корней этого мифа.
Фальшак про Вышинского и "царицу доказательств" — дитя XX съезда. И создали этой фейк — ирония судьбы! — для подтверждения вполне правдивого тезиса, который высказал Хрущев в своем знаменитом докладе:
«…А какие доказательства пускались в ход? Признания арестованных. И следователи добывали эти «признания». Но как можно получить от человека признание в преступлениях, которых он никогда не совершал? Только одним способом: применением физических методов воздействия, путем истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства. Так добывались мнимые «признания»…».
Фамилий при этом Никита Сергеевич не называл.
Фамилию назвал в мае все того же 1956 года секретарь ЦК КПСС Шепилов Д.Т. — да, тот самый, который " и примкнувший к ним ". В том же сборнике «Доклад Н.С. Хрущёва о культе личности Сталина на XX съезде КПСС: Документы. — М.: РОССПЭН, 2002», откуда взята и цитата Хрущева, приводится текст проекта доклада Шепилова, где черным по белому написано:
"Например, академик Вышинский, считавшийся непререкаемым авторитетом в вопросах права, писал, что тезис Сталина об усилении сопротивления врагов по мере роста мощи Советского государства «является основой всей нашей работы по организации Советского государства». (А.Вышинский, «Вопросы теории государства и права», М. 1949 г., стр. 62). Вышинский утверждал, что личные признания обвиняемого, его показания являются основным доказательством, что «участие в группе, осуществляющей преступные действия, может влечь за собой ответственность участника этой группы даже в том случае, если он сам к этим преступным действиям непосредственного отношения не имел и согласия на их совершение не давал» (там же, стр. 116)…".
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу
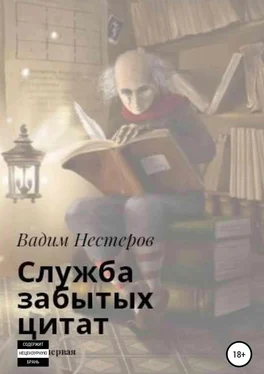
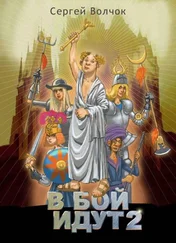

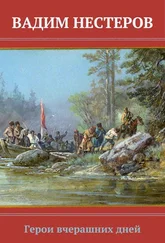

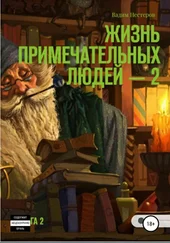
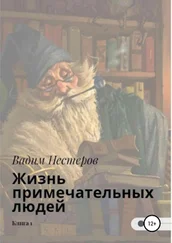
![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 3 [СИ]](/books/430230/vadim-nesterov-kuda-idem-my-3-si-thumb.webp)
![Вадим Нестеров - Куда идем мы… - 2 [СИ]](/books/434164/vadim-nesterov-kuda-idem-my-2-si-thumb.webp)