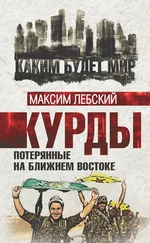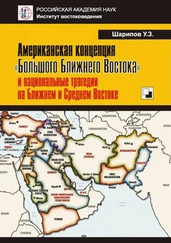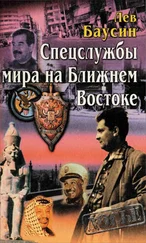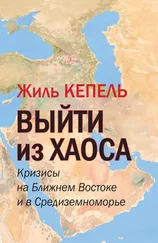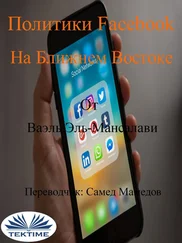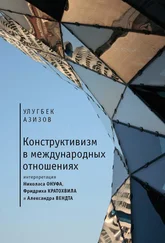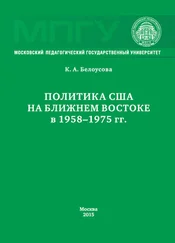Лишь после публикации труда Ф. Шаландона началось исследование ойкуменической доктрины как идеологии внешней политики Византии, предопределившей ее цели, принципы и методы. Работы Ф. Дельгера, Д. Оболенского, Г. Острогорского, Н. Арвейлер во многом вскрыли специфику внешнеполитической доктрины империи, без учета которой многие акции византийской дипломатии оставались непонятными и труднообъяснимыми [170, 183–196; 171, 34–69; 172, 159–182; 245, 45–61; 246; 247, 37–44; 248, 1–14; 132; 134]. Проблема создания и функционирования системы вассальных государств вдоль границ Византии была поставлена в коллективном докладе советских исследователей [113, 21–26]. В дальнейшем разработка проблематики внешней политики Византии пошла по пути как углубленного исследования отдельных эпизодов, уточнения их датировок [см. 54, 117–119; 81, 3–231; 83, 235–236; 94, 260–272; 106,34–44; 111,53–63; 112, 139–147; 142, 229–236; 187, 215–227; 188, 298–303; 250; 274; 279, 68–73], так и изучения отношений империи с Западом и государствами, образовавшимися на территории Ближнего Востока вследствие сельджукской экспансии и первого крестового похода [55, 78–88; 57, 5–13; 60; 61, 1–176; 149, 10–15; 151, 84–90]. Следует подчеркнуть, что исследовались данные отношения преимущественно в рамках изучения проблематики крестовых походов. И лишь монументальный труд Р. Ламмы был посвящен взаимоотношениям Византии с государствами Западной Европы на протяжении столетия от 80-х годов XI до 80-х годов XII вв. [216].
В византиноведении проблемы внешней политики империи в силу объективных причин надолго отошли на второй план, уступив место более актуальным в послевоенный период — 50–70-е годы XX в. — проблемам внутриполитического развития, экономической и социальной структуры Византии. Исследование истории империи XI в., начатое в 50-е годы Г. Острогорским, Р. Дженкинсом, П. Харанисом, Г. Гийяном [249; 208; 163, 196–240; 164, 140–154; 194, 168–194], Р. Лемерлем, позднее было продолжено в 60–70-е годы рядом исследователей, в частности X. Арвейлер, С. Врионисом [131; 133, 124–137; 276, 157–175; 277]. В русской историографии наиболее фундаментальной, в известной степени до сих пор не утратившей своего значения является монография Н. Скабалановича [102]. В советское время проблемы византийской истории X–XI вв. стали предметом исследования Г. Г. Литаврина, А. П. Каждана, применительно к восточным фемам империи и ее отношениям с государствами Закавказья — Р. М. Бартикяна, К. Н. Юзбашяна, В. А. Арутюновой (см. 92; 93; 87; 88; 137; 54; 125, 36–45; 126, 104–113; 127]. В то же время вплоть до настоящего времени как в советской, так и в зарубежной историографии остаются слабо изученными социально-экономические отношения в Византии в XII в., их эволюция, социально-экономические причины краха «клана Комнинов», а затем и самой империи в 1204 г. Многие вопросы, поставленные в советской историографии еще в 60-е годы, такие, как социальная база «клана Комнинов», его военная и налоговая политика, отношения с различными группировками правящей верхушки, отношение провинциальных городов к политике центрального правительства, процесс закабаления-крестьянства и его последствия, не получили сколь-нибудь убедительного разрешения [см. 80; 82, 53–98; 87]. Все это создает определенные трудности и при анализе внешней политики Византии ХІІ в., так как пока нет возможности четко определить, как относилась та или иная группировка правящей верхушки к внешней политике «клана Комнинов» и как это отношение влияло на данную политику.
В русской историографии отдельные вопросы восточной политики Византии, в основном периода крестовых походов, рассматривали А. А. Васильев, Ф. И. Успенский, В. Г. Васильевский [60; 61, 1 –176; 62, 18–105; 63, 106–138; 114, 229–268; 116; 117, 111–138; 118]. Особенно значительны работы последнего, посвященные союзу «двух империй» и итальянской кампании Мануила Комнина. В советской историографии эта проблематика не исследовалась и соответствующая глава коллективной монографии «История Византии» во многом основывалась на труде Ф. Шаландона, будучи вторичной как па использованному материалу, так и по общей концепции. Так, была воспроизведена оптимистическая оценка внешнеполитического положения Византии накануне Мириокефала, присущая французскому исследователю, но мало обоснованная в его работе [80, 329].
В западноевропейской историографии внешняя политика Византии конца XI–XII вв. также исследовалась преимущественно в связи с крестовыми походами. История изучения последних насчитывает уже второе столетие, начиная с работ М. Мишо и Э.Дюлорье и кончая трудами Р. Груссе, К. Казна, С. Рэнсимена и Г. Майера [191; 146; 151, 84–90; 153, 6–230; 154, 118–125; 173; 237, 717–733; 238, 93–184; 263, 3–12; 264]. Для западноевропейской и американской историографии XIX — первой половины XX в. характерен апологетический подход к движению крестоносцев. Для Э. Дюлорье крестоносцы — «мстители униженного креста». Их освободительная миссия в отношении закабаленного «неверными» сельджуками христианского населения Ближнего Востока, в недавнем прошлом подвластного Византии, неоспорима, а благородные цели, как, например, оказание помощи империи и освобождение Иерусалима из рук «неверных», делают их носителями и выразителями общехристианских чаяний и идеалов [173, 226]. Как следствие, христианское население Ближнего Востока рассматривается Э. Дюлорье в качестве естественного союзника западных «освободителей», а Византия, не столь уж безоговорочно воспринявшая «благородные» цели похода и пытавшаяся использовать «мистический порыв» крестоносцев в своих интересах, объявляется изменницей «общехристианскому делу». Элементы данной трактовки крестовых походов, не имевшей ничего общего с реальностью и в дальнейшем неоднократно использовавшейся в интересах империалистических государств новейшего времени, ныне сохранились в трудах лишь отдельных исследователей. Ярчайший пример апологетики походов — трехтомная монография французского исследователя Р. Груссе, кстати, все еще являющаяся лучшей в плане фактологии [191]. Лишь здесь дано подробное описание и анализ Константинопольского соглашения Алексея I с крестоносцами, предопределившего характер дальнейших отношений двух сторон. В то же время при анализе отношений королей Иерусалима с императорами Византии исследователь пытался доказать, что они были основаны не на признании первыми сюзеренитета вторых, но на общехристианской солидарности в борьбе с «неверными», будучи братскими по характеру и равноправными по форме [191, 2, 407]. Для доказательства данного тезиса Р. Груссе либо игнорирует известные факты, его опровергающие, либо отметает Свидетельства византийских хронистов как тенденциозные. Даже борьба между Византией и Иерусалимским королевством за влияние в Антиохийском княжестве, о которой сообщают латинские хронисты, замалчивается, а попытки королей установить свой контроль над Антиохией объясняются некими высшими интересами, общехристианскими, кои и выражали владетели «святого града». Лишь недавно данный вопрос был четко поставлен и разрешен Г. Э. Майером [237, 717–733].
Читать дальше
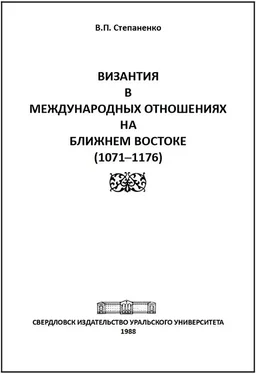
![Юджин Роган - Падение Османской империи [Первая мировая война на Ближнем Востоке, 1914–1920]](/books/26025/yudzhin-rogan-padenie-osmanskoj-imperii-pervaya-miro-thumb.webp)