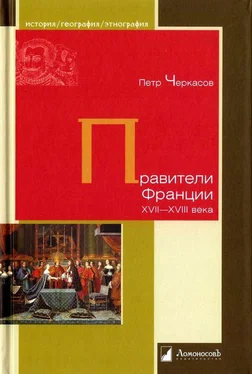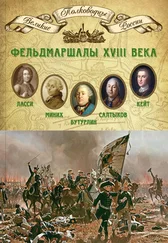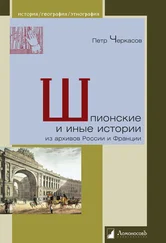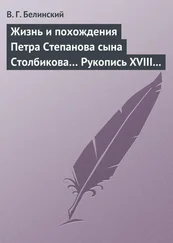Неожиданная помощь пришла из Вены, откуда Мария-Терезия давно с нараставшей тревогой наблюдала за драмой любимой дочери. В апреле 1777 года императрица отправила во Францию своего сына, императора Иосифа II, которому удалось убедить Людовика XVI решиться на пустяковую операцию, а заодно повлиять на сестру-королеву, отдалившуюся по понятным причинам от супруга.
«Чудо свершилось», — докладывал Марии-Терезии ее посол при Версальском дворе граф Мерси Аржанто в двадцатых числах августа 1777 года. В апреле 1778 года, на восьмом году супружества, Людовик XVI узнал, что должен стать отцом. Радости его не было предела.
19 декабря 1778 года Мария-Антуанетта родила первенца-девочку. Спустя три года, к нескрываемому огорчению братьев короля, на свет появился долгожданный наследник (он умрет за месяц до падения Бастилии). В 1785 году королева родит второго сына, которого роялисты после казни Людовика XVI назовут Людовиком XVII (десятилетний мальчик трагически погибнет в июне 1795 года), а в 1786 году у Марии-Антуанетты родится четвертый, последний ребенок, Софи-Беатрикс. Малышка, правда, проживет менее года.
Так или иначе, но в обществе мужская репутация Людовика XVI с его отцовством была восстановлена. Непопулярность же Марии-Антуанетты, присущие королеве легкомысленное высокомерие и безразличие к мнению бомонда стараниями мстительной «придворной сволочи» (Стефан Цвейг) со временем перейдет в едва ли не всеобщую ненависть.
Впрочем, все это относилось к более позднему времени, а тогда, в мае 1774 года, восшествие на престол Людовика XVI было всеми воспринято с радостью и надеждой, выражением которых стало добавление к имени короля лестного эпитета «Желанный». Марию-Антуанетту, о которой в народе тогда ничего еще не знали, кроме того, что она очень красива, простолюдины приветствовали с тем же энтузиазмом, что и своего добродетельного девятнадцатилетнего короля.
С молодым королем связывали надежды на реформы, способные вывести страну из кризиса. В просвещенных кругах открыто обсуждали «Общественный договор» Жан-Жака Руссо, ставший своего рода новым евангелием для образованного общества. Идея нравственного совершенствования человечества словно вирус овладела умами, отвергавшими традиционные ценности и прежде всего религию. Возникло множество масонских лож и всевозможных философских обществ. «Со времени изгнания иезуитов, — отмечала биограф Людовика XVI Эвелин Левер, — парламентарии и философы составили своего рода соединенную партию. Осмелев от этого успеха, магистраты не желали больше безропотно подчиняться давлению королевской власти».
Повсюду, включая дворянскую и даже аристократическую среду, велись навеянные модой, но от того не менее опасные для устоев Старого порядка разговоры о равенстве и свободе.
Но общественные настроения имели не только отвлеченный характер. В них присутствовали и совершенно определенные требования: удаление ненавистных министров, восстановление распущенной Людовиком XV старой парижской магистратуры и ликвидация вновь созданной [34] Парижский парламент, отказывавшийся утверждать финансовые аферы Людовика XV, был распущен королем по инициативе канцлера Мопу, а 130 его членов отправлены в ссылку. Вместо распущенного парламента король сформировал новый (так называемый «парламент Мопу»), не пользовавшийся доверием общества.
, реформа финансовой системы, неотложные меры по преодолению голода, искусственно вызывавшегося государственной монополией на хлебную торговлю. Эти и другие пожелания были доведены до сведения молодого короля.
Людовику XVI потребовалось некоторое время для того, чтобы определиться с новым курсом, а также подобрать министров, которым он мог бы доверять и на которых мог опереться. В размышлениях на эту тему юный король руководствовался, по всей видимости, не только господствовавшими в обществе настроениями и ожиданиями, но и теми принципами, на которых он был воспитан. Действительно, при формировании нового министерства и Королевского совета Людовик XVI призвал к власти тех, кто когда-то пользовался доверием глубоко почитаемого им покойного отца. В то же время новый король обнаружил и понимание назревших проблем, требовавших новых подходов и прежде всего принятия неотложных мер по преодолению тяжелого финансового кризиса, доставшегося ему в наследство от расточительного деда.
Бюджетный дефицит делал неизбежной политику жесткой экономии. Вот что сообщал 15 мая 1774 года из Парижа в Петербург российский посланник князь Иван Сергеевич Барятинский: «Ожидают, что дворцовые расходы уменьшены будут во всех частях, и в самом деле сделаны уже некоторые убавки. Все сие подает народу великую надежду о хорошем впредь правлении нынешнего короля».
Читать дальше