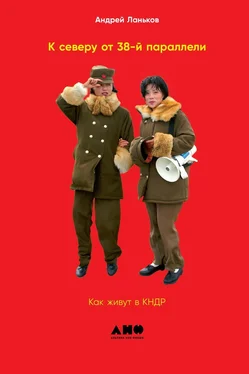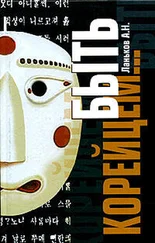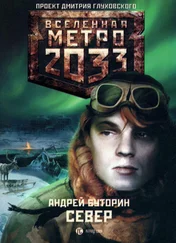Конфискационные денежные реформы периодически происходили в социалистических странах, хотя время от времени в кризисных условиях к подобным мерам прибегали и руководители стран с рыночной экономикой: можно вспомнить денежную реформу в Западной Германии в 1948 году и денежную реформу в Южной Корее 1962 года. Прототипом таких реформ для социалистических стран обычно служила советская денежная реформа 1947 года. Общий сценарий реформы был хорошо известен. Начинается все с того, что в один прекрасный день население узнает из сообщений СМИ, что привычные старые банкноты через несколько дней станут бесполезными и их следует срочно обменять на новые банкноты. Новость эта должна быть совершенно неожиданной: сохранение максимальной секретности является одним из важнейших условий успешного проведения денежной реформы данного типа. Для обмена старых купюр на новые устанавливаются строгие ограничения: обменивать можно лишь в пределах определенных, обычно небольших сумм. При этом к наличным деньгам применяются более суровые ограничения, в то время как банковские вклады обычно в ходе реформы страдают несколько меньше. Период, в течение которого возможен обмен купюр, обычно устанавливается намеренно коротким. Фактически при такой реформе речь идет о слегка замаскированной конфискации денежных средств населения – в первую очередь находящейся в обращении наличности. Результатом конфискационной денежной реформы становится резкое сокращение денежной массы, что весьма полезно для сдерживания инфляции. С точки зрения руководства социалистических стран такая реформа имела еще одно важное дополнительное преимущество: от нее в первую очередь страдали «спекулянты», деятели черного рынка.
Северокорейская денежная реформа 2009 года тоже начала разворачиваться по этому хорошо известному сценарию. 30 ноября в 11:00 утра население Северной Кореи узнало, что старые банкноты выводятся из обращения. Как это часто бывает, обмен сопровождался деноминацией: объявлялось, что десять «новых» вон будут эквивалентны тысяче «старых» («зачеркивание двух нулей»). Если бы деноминация прошла так, как изначально планировалось, это сделало бы розничные цены примерно такими же, какими они были в начале 1990-х, непосредственно перед крахом государственной экономики. Скорее всего, это не было случайным совпадением: организаторы реформы хотели показать, что, мол, отныне все опять будет по-старому, как оно было во времена Ким Ир Сена.
Смена банкнот должна была завершиться через неделю, причем изначально разрешалось обменивать не более 100 000 «старых» вон на человека (на тот момент сумма эта была эквивалентна $30 по текущему курсу). Все, что превосходило этот лимит, обменивалось с понижающим коэффициентом. После того как было передано сообщение о реформе, в стране предсказуемо началась паника, поскольку многие северокорейцы, особенно те, кто работал в частном секторе, имели на руках значительные суммы наличности в местной валюте. Собственно говоря, на максимальное разорение таких полуподпольных миллионеров реформа и была изначально направлена: ее главная политическая задача заключалась в том, чтобы нанести сокрушительный удар по частной экономике, разорив большинство ее участников.
Однако у северокорейской денежной реформы 2009 года была одна поразительная особенность, которая обрекала ее на провал. Было объявлено, что все сотрудники государственных организаций и учреждений будут отныне получать заработную плату в новых купюрах, но в прежнем номинальном размере. Это означало одномоментное повышение зарплаты в 100 раз (то есть на 10 000 %). Возьмем, например, квалифицированного рабочего, который послушно появлялся на своем давно остановившемся заводе и до денежной реформы получал 3500 вон в месяц. Предполагалось, что после реформы рабочий будет получать те же самые 3500 вон в месяц, но уже в новых купюрах, покупательная способность которых теоретически должна была быть в 100 раз больше! Например, цена на рис была тогда официально установлена на уровне 22 «новых» вон за килограмм, в то время как до реформы она составляла 1800–2000 «старых» вон за килограмм. Некоторое время иностранные наблюдатели были озадачены таким, казалось бы, иррациональным шагом, последствия которого – взрыв гиперинфляции – были слишком очевидны, и рассуждали о «тайном плане Ким Чен Ира», а то и просто отказывались верить первым сообщениям о якобы ожидающемся повышении всех зарплат в госсекторе на 10 000 %. Однако вскоре стало ясно, что никакого «тайного плана» нет и что сообщения действительно являются чистейшей правдой. Очевидно, что люди, которые одобрили план денежной реформы, не понимали, что одномоментное повышение всех зарплат в 100 раз приведет не к существенному повышению уровня жизни, а к инфляционному цунами.
Читать дальше
Конец ознакомительного отрывка
Купить книгу