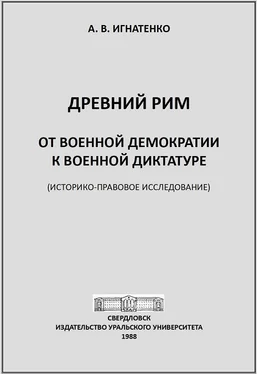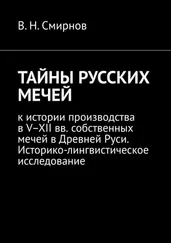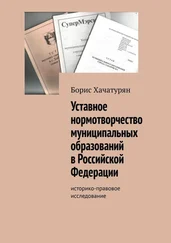Несколько особняком стоит дефиниция политического режима, разработанная В. С. Петровым: режим раскрывается как внутренняя форма государства, включающая его механизм (внутренняя структура власти, связь элементов власти в данной государственной системе) и функции (методы и формы осуществления функций данной государственной власти) [19] См.: Петров В. С Сущность, содержание и форма государства. Л, 1971. С. 93.
. Такое определение вытекает из теории о внешней и внутренней форме государства, которой придерживался В. С. Петров в последние годы жизни.
В 1980-е годы в научной литературе вообще стало оформляться неоднозначное толкование политического режима с одной стороны, как выходящего за рамки государства компонента политической системы классового общества, а с другой — как элемента собственно формы государства — (в этом случае его определяют как «государственный», «государственно-правовой», «политико-правовой режим» [20] Теория государства и права / Под ред. А. И. Денисова, М., 1980. С. 49. Ср.: Теория государства и права / Под ред. С. С. Алексеева. М., 1985. С. 51.
), т. е. толковать его предлагают в широком и узком смысле [21] Теория государства и права / Под ред. А. И. Денисова. С. 52.
. Политический режим, по мнению ряда современных теоретиков-государствоведов, предопределяет не только особенности организации и деятельности государственного механизма, но также соотношение последнего со всеми существующими негосударственными общественно-политическими организациями. Поэтому режим определяет (или отражает) и функционирование политической системы классового общества в целом [22] См.: Основы теории политической системы / Отв. ред. Ю. А. Тихомиров, В. Е. Чиркин, М., 1985. С. 100.
. Именно потому иными он рассматривается и в качестве главного элемента формы государства [23] См.: Теория государства и права. Л., 1982. С. 48.
. К тому же теоретики все более склоняются к мнению об универсальности занимающей нас категории, о применимости ее ко всем эксплуататорским государствам [24] См.: Там же.
. Использование ее тем не — менее было буквально «монополизировано» исследователями государства буржуазного [25] См., напр.: Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости / Под ред. Б. А. Стародубского и B. Е. Чиркина. 2-е изд. Μ., 1977. С. 66–70; Стародубский Б. А. Буржуазная демократия: миф и действительность. М., І977. С. 90–107; Государственное право буржуазных стран и стран, освободившихся от колониальной зависимости / Под ред. И. П. Ильинского и М. А. Крутоголова. Μ., 1979. C. 193–202 и др.: Ильинский И. П., Мишин А. А., Энтин Л. М. Политическая система современного капитализма. Μ., 1983. С. 189 сл.; Политические системы современности / Отв. ред. Ф. М. Бурлацкий, В. Е. Чиркин. Μ., 1978. С. 38.
. В характеристике же добуржуазных государств, в частности рабовладельческого, этот термин, как правило, не фигурирует
Даже в фундаментальном исследовании «Марксистсколенинская теория государства и права. Исторические типы государства и права» речь идет лишь о формах рабовладельческого государства, таких как восточная деспотия [26] Марксистско-ленинская общая теория государства и права: Исторические типы государства и права. Μ., 1971. С. 151. Интересно отметить, что «синонимом деспотии, — по мнению автора соответствующего раздела, — являются неограниченная монархия и тирания» (автор ссылается на «Советскую историческую энциклопедию». (Μ., 1964. Т. 5. С. 131). Однако представляется совершенно недопустимой идентификация древневосточной деспотии и греческой тирании, кардинальные различия между которыми очевидны
, греческие полисы — демократические и олигархические [27] См.: Там же С. 53–154.
, рабовладельческая аристократическая республика в Спарте (с сильными пережитками первобытнообщинного строя и военной демократии), олигархическая рабовладельческая республика в Карфагене, Карфагенская держава, наконец, аристократическая рабовладельческая республика, а затем монархия в Риме {сначала «ограниченная» — принципат, затем «неограниченная» — доминат) [28] См.: Там же. С. 162, 163–164.
. Подобный подход к характеристике форм рабовладельческого государства в целом и отсутствие прямых указаний на политические режимы, форму государственного устройства в различных государствах Древнего Востока и античного мира представляются по меньшей мере непоследовательными.
В рассматриваемом исследовании особенно «не повезло» проблеме политического режима в Риме. Здесь, хотя и отмечено различие между аристократической рабовладельческой республикой в Риме V–II вв. до н. э. и демократической республикой в Афинах V–IV вв. до н. э., о конкретных отличиях сказано лишь, что «среди органов власти Афин ведущее место принадлежало коллегиальным органам — народному собранию и Совету пятисот», а в Риме «высшая власть сосредоточилась в руках должностных лиц», комиции же играли второстепенную роль. В трактовке кризиса Римской республики, хотя и указано на ослабление демократических тенденций (в результате исчезновения мелкого землевладения и утраты политических прав «сельскими плебеями»), на переход к «системе диктатур», главное внимание уделено кризису республиканской формы правления [29] См.: Там же С 162.
.
Читать дальше