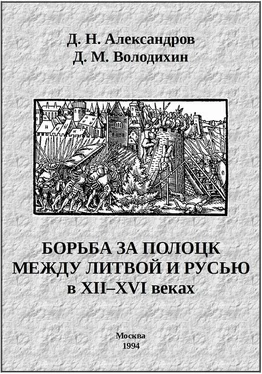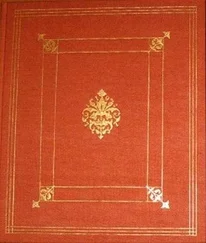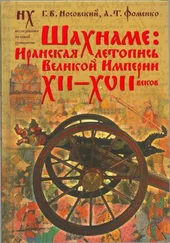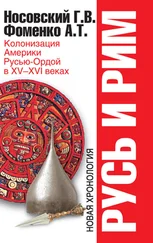Однако ряд других источников противоречит этой версии. Это, во-первых, сообщение Румянцевской летописи, составленной ненамного позднее полоцких событий, о том, что Иван IV «простой народ побил». [519]Во-вторых, известие Левенклавия, настаивавшего на зверской жестокости царя: «…пленников…связав железными цепями (!) и угнав в Московию, других же до 40 тысяч убив, сам город сжег». Трактат Левенклавия (Levenclavius, Löwenklau — 1533–1593 гг.) «De moscovitarum bellis cornmentarius» был издан в 1571 г. в качестве приложения к известному труду С. Герберштейна о Московском государстве. Самое беглое знакомство с трактатом убеждает в ярко выраженной тенденциозности автора: Левенклавий крайне враждебен по отношению к Ивану IV. Левенклавий считал, что московский государь распространял за рубежом «семена раздора», делая все, чтобы захватить большую часть польской Ливонии, «но не мог договориться ни с народом, ни со знатными людьми земель, на которые он претендовал». [520]В трактате личность Ивана IV нередко выставляется в самом мрачном свете, куда чернее и кровавее, чем у Карамзина. Едва ли есть основания полностью доверять сведениям трактата. К тому же из летописных известий, из «Записок о Московской войне» Р. Гейденштейна к др. польских источников неоспоримо следует, что Иван IV города не сжигал, а напротив, занимался в нем строительством — по его приказу были возведены новые укрепления. А пожар являлся результатом действий самого полоцкого воеводы и артобстрела перед предполагавшимся штурмом замка. Это свидетельствует либо о неточности, либо о плохой осведомленности Левенклавия. [521]
«Жестокая версия» присутствует в многочисленных летучих листках, распространявшихся противниками русского влияния в Ливонии. Их сильной стороной была образность, их слабой стороной была точность. Текст одного из подобных изданий приведен Г.В. Форстеном в его работе «Балтийский вопрос в 16 и 17 столетиях» («Правдивое и ужасающее известие…» — 1563 г., отпечатано в Аугсбурге М. Франком), по поводу казней там говорится: «[Иван IV] город целиком и полностью сжег до основания и двадцать тысяч человек предал мучительной смерти на крючьях и виселицах». [522]Стиль и тон, в котором выдержан летучий листок, призывы обратиться к Господу Богу перед лицом «бича Божьего», «язычников», указывают на очевидный пропагандистский характер издания, а по поводу пожара в Полоцке обнаруживается та же неточность, что и у Левенклавия. И, наконец, наиболее неправдоподобно изложен этот вариант у Г. Штадена: «Великий князь вызвал из города все рыцарство и воинских людей. Их таким образом разъединили, а потом убили и бросили в Двину. С евреями, которые там были, случилось то же самое, хотя они и предлагали великому князю много тысяч флоринов выкупа». Это известие опровергается и польскими, и русскими источниками, едиными в том, что польский гарнизон отпущен был на свободу. [523]
Итак, большинство сообщений последней версии о «массовых казнях» представляются сомнительными. Но они наталкивают на соображение о возможном наличии многочисленных жертв, не связанных с казнями. Вернемся к сообщению Хроники Стрыйковского. В ней сказано, что монахов-бернардинов порубили татары, хотя такого скорее можно было ожидать от озлобленных православных. Что за дело татарам до католических монахов? Видимо, никаких массовых, организованных самим царем преследований бернардинов не было, но после занятия города войска совсем не обязательно должны были сохранять порядок. Обстановка неправославных храмов могла оказаться предметом грабежа, прежде всего производившегося татарами, избавленными от страха Божьей кары, от которого не совсем избавлены были православные. По ходу дела могли и зарезать кого-нибудь из католического духовенства — во взятом городе отряды победителей не очень-то церемонятся с местным населением. Казни же имели место, но не были массовыми. Не в них заключалась главная трагедия полочан.
Московские войска захватили в Полоцке богатую добычу. В этом сходятся все источники. Виленский летучий листок, в частности, сообщает: «взят был… большой город Полоцк с большими сокровищами в деньгах, серебре, золоте и товарах». [524]Приписка к Псковскому летописному своду 1567 г. не менее красноречива: «…а имения их (т. е. С. Довойны и А. Шисцы. — Д.В .) и казны королевскиа и паньскиа, и гостины злата и серебра много на великого князя взяли». [525]Часть захваченных богатств Иван IV отдал «бояром и воеводам», велев оставить для себя «наряд (20 пушек) [526]…и казну королевскую». [527]У горожан ценное имущество было отобрано и оставлено лишь полякам. К ротмистрам и солдатам польского гарнизона, а также немецким наемникам царь отнесся милостиво. Ротмистры получили в дар собольи шубы, покрытые парчой. Старший из них, А. Верхлинский, был впоследствии обвинен воеводой Стажеховским в получении подарков от неприятеля, но сумел оправдаться. [528]500 солдат были с имуществом и оружием отпущены восвояси в начале 20-х чисел февраля. Более того, им была выдана охранная грамота, в которой, кстати говоря, Иван IV именует себя, кроме всего прочего, «великим князем полоцким». На 20 верст от Полоцка их провожали трое «голов»: П. Щепин, В. Бутурлин и Ф. Салтыков. [529]
Читать дальше