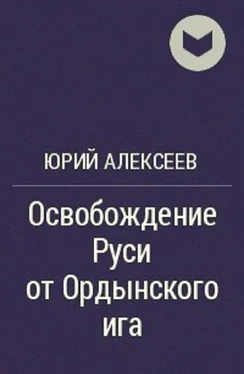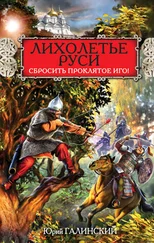Несмотря на свой мирный исход, «брань» о Кирилловом монастыре является весьма знаменательным событием. Краткое известие Типографской летописи и случайно сохранившийся список правой грамоты приоткрывают завесу над сложной политической борьбой, длившейся уже десятилетия. Впервые мы узнаем о серьезных противоречиях, о конфликте между великокняжеской властью и митрополитом, о союзе последнего с удельным князем, о фактическом расколе в верхах церковной иерархии, о феодальной оппозиции в монастырских стенах.
Поддерживая права (формально, по-видимому, бесспорные) удельного князя, митрополит Геронтий выступает ревнителем «старины» — удельно-княжеской традиции, имеющей корни в далеком прошлом. Выступая за сокращение прав белозерского князя, ростовские архиепископы (и Трифон, и особенно Вассиан) нарушают эту «старину» и фактически подрывают один из существенных устоев удельно-княжеского суверенитета. Борьба удельной «старины» и централизаторской тенденции четко проявляется в «брани» о Кирилловом монастыре.
Отказ митрополита от суда на церковном соборе свидетельствует о том, что он не был уверен в поддержке большинства иерархов (несмотря на формальную правильность своей позиции). Видимо, архиепископ Вассиан — не единственный представитель церкви, пытавшийся пересмотреть «старину». [28] Борисов Н.С. Русская церковь в политической борьбе XIV–XV веков. М., 1986. С. 169–170.
С другой стороны, наличие в крупнейшем (после Троицкого) русском монастыре сильной группировки сторонников старых удельных порядков едва ли может рассматриваться как случайность. Монастыри-феодалы не были и не могли быть нейтральными в политической борьбе старого с новым, борьбе, охватившей всю Русскую землю.
Выдающиеся успехи политики централизации, достигнутые к концу 70-х гг., имели одним из своих последствий обострение противоречий между сторонниками и более или менее активными противниками этой политики, появление консервативной удельно-клерикальной оппозиции, первое свидетельство о которой — «брань» о Кирилловом монастыре. Против последовательной политики централизации, означавшей не только формальное достижение политического единства, но и перестройку всей системы внутриполитических отношений Русской земли, формируется союз представителей удельно-княжеской традиции с высшим руководством русской церкви в лице властного и честолюбивого, но по-своему принципиального митрополита Геронтия. Именно этот союз, эта новая расстановка политических сил в верхах — важная примета времени, наступившего после новгородского «взятия». Если удельно-княжеская оппозиция, проявившаяся впервые в начале 70-х гг., — реакция на наступление великокняжеской власти на политические и территориальные права удельных князей Московского дома, то клерикальная оппозиция в верхах и сближение ее с удельно-княжеской — следствие наступления на политические и имущественные права церковных феодалов, впервые ясно обозначившегося в январские недели Троицкого стояния 1478 г. Перед верхами русской церковной иерархии, как и перед удельными князьями, стояла дилемма — либо подчиниться государственной политике централизации, пожертвовав частью своих владений и прерогатив, либо вступить в борьбу с ней, отстаивая всю неприкосновенность своих прав и привилегий. Митрополит Геронтий и архиепископ Вассиан по-разному решают эту дилемму, почему и оказываются в разных политических лагерях во время «брани» о Кирилловом монастыре. И тот, и другой опираются на определенные морально-политические традиции и общественные силы. Борьба по вопросу централизации государства проникает и в монашескую келью, и в княжеский дворец.
К числу важнейших событий русской жизни конца 70-х гг. относится освящение Успенского собора в Москве, который по замыслу правительства и высших церковных кругов должен был стать главным патрональным храмом Русского государства. Отсюда обостренное внимание летописей ко всем стадиям и деталям строительства нового храма, подробное описание церемонии освящения его, содержащееся в официозной Московской летописи.
Освящение собора, которому был придан характер большого церковно-политического торжества, состоялось 12 августа 1479 г. По словам Московской летописи, на торжестве присутствовал освященный собор в составе митрополита, архиепископа ростовского Вассиана и епископов — суздальского Евфимия и Сарского Прохора; рязанский и коломенский епископы не участвовали по болезни. [29] ПСРЛ. Т. 25. С. 324.
Обращает на себя внимание отсутствие тверского епископа — глава тверской епархии, как и прежде, уклоняется от участия в московских церемониях. Это, видимо, определенная политическая линия тверских правительственных верхов. Едва ли тверской епископ, только что (в декабре 1477 г.) поставленный на епископию Вассиан, сын знаменитого московского воеводы князя Ивана Васильевича Стриги Оболенского, был личным противником Москвы. [30] Там же. Т. 24. С. 196. — Ростовская летопись подчеркивает, что на его поставлений был («ту сущу») великий князь Иван Молодой, возглавлявший московскую администрацию в отсутствие отца.
Читать дальше