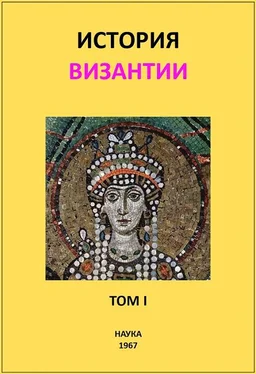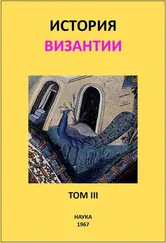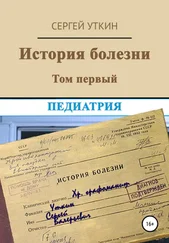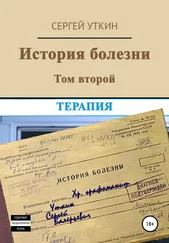Уникальны по своей свежести и непосредственности сведения Приска о стране гуннов, их образе жизни, обычаях [28] Сказания Приска Панийского, стр. 51.
, языке, обращении с покоренными племенами, а также об отношениях с различными народами Востока и Запада. Никто из современных писателей не оставил такого яркого, списанного с натуры, жизненно правдивого портрета правителя гуннов Аттилы [29] Там же, стр. 68.
, как Приск.
Особое значение имеет рассказ Приска о его встрече с богато одетым греком-военнопленным, который предпочел жизнь у гуннов жизни в империи. Разговор между Приском и пленным греком по существу является спором о преимуществах одного из двух миров — римского или варварского. Критика общественного строя Византийской империи [30] Там же, стр. 55.
, вложенная в уста грека-перебежчика, в какой — то степени выражала политические взгляды самого Приска, изобличавшего пороки византийского общества. Этой критике он в то же время противопоставляет свою апологию порядков Римского государства. Приск рисует идиллическую картину торжества мудрых законов в империи; Византия изображается им в духе идеального государства Платона. Особенно неправдоподобно описаны взаимоотношения рабовладельцев и рабов, с которыми, по словам Приска, ромеи поступают значительно снисходительнее, чем варвары. Господа могут отпускать рабов на волю не только в течение своей жизни, но и перед смертью. Распоряжения умирающего относительно его собственности есть закон. При этих словах Приска грек-перебежчик якобы заплакал и воскликнул: «Законы хороши и римское общество прекрасно устроено, но правители портят и расстраивают его, не поступая так, как поступали древние» [31] Там же, стр. 57–58.
.
В этих высказываниях Приска проявилась известная двойственность его мировоззрения: он видел и пороки общественного строя империи и преимущества быта варваров, но, оставаясь ромеем, не мог примириться с критикой существующих порядков, исходившей к тому же от перебежчика.
Приску свойственно благожелательное отношение не только к гуннам, но и к другим варварским народам, в частности к славянам [32] Там же, стр. 46–47.
.
Для социально-политических взглядов Приска симптоматична его враждебность к народным движениям, принимавшим зачастую религиозную форму. Во время восстания в Александрии в 543 г. Приск показал себя, судя по рассказу Евагрия, как благонамеренный чиновник, хитрый дипломат, православный христианин, помогавший правительству в борьбе с народным движением, которое проходило под монофиситскими лозунгами. В своем сочинении, однако, Приск не проявляет какой-либо религиозности, он скуп на сведения, касающиеся вопросов религии, далек от того, чтобы объяснять ход истории промыслом божьим [33] Там же, стр. 81–82.
, не склонен к суевериям.
Как и другим образованным писателям того времени, Приску свойственно пристрастие к античным реминисценциям. Повествуя о движении народов Востока и о смерти Аттилы, Приск находит аналогии у Геродота. Геродот был для него образцом, которому он подражал. Влияние Геродота сказалось не только в языке и стиле сочинения Приска, но и в привлечении им исторических аналогий для объяснения современных событий.
Приск не свободен от архаизирующих тенденций античной и ранневизантийской литературы; так, гуннов он называет скифами и т. п. Его язык порою архаичен.
Тем не менее Приск в своем сочинении дал удивительно жизненный и красочный рассказ о посольстве византийцев к Аттиле; по своей живости и величавой простоте он может сравниться с лучшими страницами античной историографии. Беспримерная для византийца объективность в отношении варваров, глубокое понимание исторического значения передвижения огромных масс людей (великое переселение народов), знание жизни, умение обобщить материал и выделить главное выдвигает труд Приска на одно из первых мест среди исторических источников V в. Недаром в последующее время сочинение Приска используют все византийские авторы, а современные ему западные хронисты отстают от него очень далеко, давая лишь краткие сведения о тех событиях, которые он описал с таким блеском.
Продолжателем Приска Панийского являлся сириец Малх Филидельфиец (V в.), уроженец города Филадельфии в Палестине. Ритор по профессии, он приобрел большую известность как софист и был преподавателем философии и ораторского искусства в Константинополе. Его перу принадлежит историческое сочинение «О событиях или делах византийских», тоже сохранившееся лишь в извлечениях позднейших писателей [34] Маlhi fragmenta. — HGM, I, p. 383–424 (далее — Maleh.); Mалх Филадельфией. Византийская история в 7 кн., в кн.: «Византийские историки», стр. 227–277.
.
Читать дальше