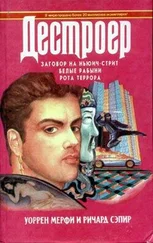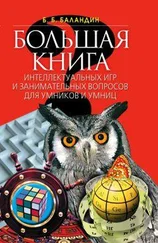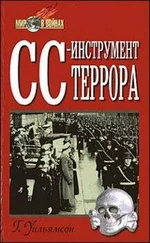Доклад был прочитан в последний день II года Республики. Нет сомнений, что торжественность этого заседания благоприятно повлияла на одобрение данного текста — и как итога, и как программы. Символические моменты порождают свои собственные иллюзии: переходный период рассматривается как стабильность, надежды кажутся уверенностью, эфемерность — устойчивостью и прочностью. Ленде надеялся и верил, что печальный опыт Террора поспособствует тенденции к объединению. Похоже на то, что, одобряя этот доклад, Конвент разделил уверенность Ленде и высказался за выход из Террора, «проголосовав за забвение», если воспользоваться выражением Кинэ [92]. Однако символика и утопия единства лишь на миг, как это изредка случалось, возобладала над раздорами и обвинениями, над оскорблениями и насилием [93]. Ибо в реальности это было время поляризации и противостояния, а не единства и объединения. Политическое и символическое наследие II года, даже сведенное к тому, что хотел сохранить Ленде, более не объединяло, а разделяло; принципы 1789 года, будучи примененными к проблемам, возникшим при выходе из Террора, теперь не сплачивали людей, а разжигали конфликты. Конец II года сделал очевидным, что наследие Революции не едино, а многообразно. Оно стало объектом политических конфликтов.
«Чтобы возродить Францию, [...] нужно положить конец подозрениям», — настаивал Ленде в своем докладе. Он предлагал выйти из Террора, отказавшись от духа реванша. Своеобразие этого предложения и было его самой большой слабостью, обрекающей его на провал. Доклад Ленде тщетно старался изгнать ненависть и подозрения, остановить эскалацию страстей и озлобленности. Политический проект Ленде апеллировал к единству, обретенному Конвентом и Нацией после 9 термидора. Это сложившееся после Террора единство символизировалось единодушным возгласом: «Долой тирана!» Террор разделил граждан, чтобы «тиран» и его приспешники могли ими управлять. Вновь обретя свободу, вернувшись к своим изначальным ценностям и принципам, признавая существование одного-единственного «центра объединения», Нация должна была укрепить свое единство забвением «тирании» и стремлением к свободе.
Ленде верил, что в его силах положить начало новой эре, когда Революция сможет вновь опереться на миф о глубинном единстве Нации, народа и соответственно себя самой. В то же время она сможет вновь использовать механизм, регулирующий ее деятельность, то есть устранение побежденных политических противников, отождествленных с интриганами и врагами Республики. 9 термидора пыталось исцелить разгул страстей одним лекарством, подходившим обществу в тот момент: реваншем.
На деле же унаследованные от Террора страх и ненависть лучше всего выражались языком подозрений. Ненависть была обращена против «террористов», агентов и политических кадров Террора, всех тех, кому общественное мнение заранее вынесло приговор за участие в отправлении бесчестной власти. Страх же способствовал сохранению призрака возвращения Террора, новых убийств; его разжигали пресса, антиякобинские памфлеты, первые рассказы о потоплениях в Нанте и воспоминания освобожденных заключенных, многочисленные слухи. Реванш сделался личным и коллективным, затронул социальную и культурную сферы, он был направлен против всех этих «негодяев» и «душителей», «рыцарей гильотины» и «убийц», грабителей и расхитителей, невежд и наглецов, которые заняли все должности и некогда восторжествовали над честными людьми. Противоположностью этого страха и ненависти была тревога якобинцев о том, что их начнут преследовать: резкое изменение политической конъюнктуры, становившейся все более и более сложной, первые нападки на «патриотов» порождали среди якобинцев атмосферу страха и неуверенности. И в том и в другом лагере страх усиливался из-за свойственных Революции вербальных преувеличений, особенно распространенных в первые недели после 9 термидора. Выход из Террора расширил сферу применения свободы — в особенности свободы слова и печати. Усиление страха перед возвращением Террора поражает историков, задним числом знающих, насколько слабы были тогда якобинцы. Однако современники чутко реагировали прежде всего на риторику насилия, которой были пронизаны произносившиеся в Клубе речи. Так, на заседании 21 фрюктидора Дюэм предложил: для того чтобы «избавить наконец Республику от всех аристократов и контрреволюционеров», следует просто-напросто заменить «потоки крови и [...] многочисленные казни» на массовую депортацию всех дворян и священников — «этого пораженного гангреной нечистого сброда, [...] этих прокаженных, этих больных чумой» [94]. Напомним, что эпоха Террора окончилась совсем недавно, и политики отлично знали, что призывы могут предварять само насилие, провозглашать его и готовить к нему, и оно начнется, как только обстоятельства это позволят. Взаимное недоверие было тем более велико, что относительная политическая либерализация облегчала распространение слухов и страхов. Париж кишел «преследуемыми патриотами» и их родственниками, которые искали помощи и защиты в Якобинском клубе, принося с собой тревожные вести о том, что происходило в департаментах; с другой стороны, слухи о новом якобинском «заговоре» вызывали панику, как мы это увидим на примере якобинского восстания в Марселе 5 вандемьера III года.
Читать дальше