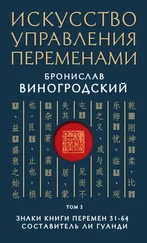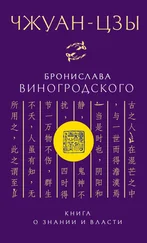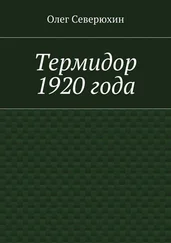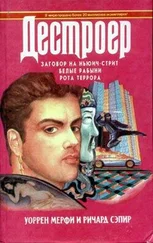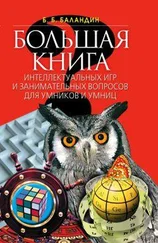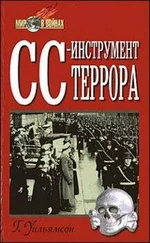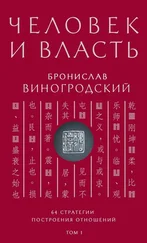Несмотря на свои символы и образы, Революция не была источником молодости. Она старела и старила. Ощущение, что прожитые годы изнурили и опустошили людей, постоянно возникало в ходе конституционных дебатов.
Кроме того, было продемонстрировано стремление учитывать свой собственный опыт и опыт других народов. В 1789 году участники дискуссии прежде всего настаивали на абсолютной оригинальности проекта, который должен был создать во Франции новое общество: обновленной Нации, начинающей все с нуля, предстояло все придумать заново и невозможно было подражать чему бы то ни было. Она не станет подражать англичанам — развращенному народу, на чьих институтах лежит печать предрассудков и духа аристократии. Однако она не станет подражать и Американским штатам — стране, без сомнения, новой и свободной, но находящейся в окружении дикарей, а не в центре старой Европы. В то же время в ходе дебатов III года Республики пример Соединенных Штатов упоминался довольно часто: их опыт, в частности, предоставлял главный аргумент в пользу двухпалатной системы. Этот опыт был полезен, и его ценили тем больше, что он сливался воедино с уроками, которые необходимо было извлечь из совершенных во время Революции ошибок: единое законодательное собрание, облеченное чрезмерной властью, слишком легко попадало под влияние демагогов и тиранов. Интерес к прошлому Революции приводил к тому, что ее восприятие во времени и в истории становилось обусловлено многими факторами. Так, возникали споры о том, не объясняются ли несчастья Республики тем, что французы представляют собой Нацию слишком развращенную и недостаточно цивилизованную, чтобы жить при демократии и знать, как это следует делать [237]. В 1789 году представление о радикальном разрыве с прошлым и желание создать абсолютно новое и оригинальное творение шли рука об руку с утверждением неограниченного суверенитета Нации. Когда дело касалось ее самой, ее воля не была ограничена ничем, Нация могла и должна была осуществлять конституирующую власть во всей ее полноте, без каких бы то ни было препон. В III году суверенитет Нации по-прежнему признавался в качестве основы Республики, однако считалось тем не менее, что он обязательно должен быть ограничен. Догмат о неограниченном суверенитете народа был использован для легитимации Террора, его губительных последствий, для тирании, осуществляемой от имени «поднявшегося с колен народа» невежественным сбродом, требовавшим прямой демократии. Тем самым мудрость и извлеченные из прошлого уроки требовали, чтобы суверенитет народа был ограничен институциональными законными и моральными рамками.
С точки зрения этой эволюции идей весьма показателен пример Сийеса. Автор работы «Что такое третье сословие?», в 1789 году выступавший за неограниченный характер конституирующей власти, воплощавшей общую волю суверенной Нации, в III году Республики без колебания отверг эту «догму», которой столь злоупотребляли «фанатики» и «демагоги». «Неограниченная власть — это политическое чудовище и огромная ошибка французского народа... Когда образуется политическая ассоциация, отнюдь не становятся общими ни все права, которые привносит в общество индивидуум, ни власть всей совокупности индивидуумов». Очевиден намек на «Общественный договор», откуда почти буквально заимствована эта формулировка. Кроме того, продолжает Сийес, «называя это государственной или политической властью, общим делают так мало, как только возможно, и лишь то, что необходимо для сохранения у каждого его прав и обязанностей. Эта частица власти мало напоминает преувеличенные идеи, в которые было так приятно облекать то, что именуется суверенитетом. Обратите внимание, что я говорю о суверенитете народа, поскольку, если суверенитет и существует, то только таковой» [238]. Система представительства обязательно ограничивает народный суверенитет. И само слово «суверенитет» представляется «воображению столь колоссальным» лишь в силу «монархических предрассудков, глубоко проникших в души французов; короли-деспоты приписывали себе неограниченную и ужасную власть; суверенитет народа должен быть еще большим». Таким образом, необходимо, чтобы суверенитет вернулся в свои разумные границы, если, конечно, нет желания повторить ошибки Конституции 1793 года. Пагубное заблуждение проистекает из руссоистской концепции общей воли — единой, неделимой, неотчуждаемой, не подверженной заблуждениям. Однако, как показал Террор, подобный волюнтаризм опасен сам по себе. «Горе народам, которые считают, что знают, чего они желают, в то время как они лишь желают — и не более того». «Желать» легче всего, однако необходимо еще знать, как организовать государственную власть.
Читать дальше