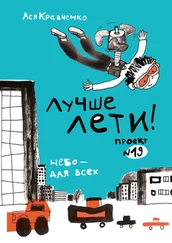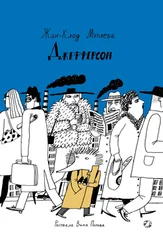Это маленькое замечание дает представление о том, чем оказались женские покои понтийского царя для милетянки, воспитанной в относительной свободе греческих колоний Ионии. Быть может, сестры царя боялись, что если они выйдут замуж за какого-нибудь чужеземного принца, то окажутся в таком же заточении, далеко от дома.
Когда римский полководец Лукулл разбил Митридата, царь послал евнуха умертвить всех обитательниц гарема, разрешив каждой выбрать себе смерть. Монима попыталась повеситься на диадеме, но безуспешно. Она проклинала диадему: «Ты не годишься даже для этого!» Незамужние сестры выбрали яд. Роксана выпила его, осыпая брата упреками и проклятиями, а Статира, наоборот, поблагодарила его «за то, что он позаботился о достойной смерти для них и избавил от поругания и бесчестья». [14] Plutarque, Vie de Lucullus , 18, 3–8; 1964, t. VII, pp. 82–83.
Государство Митридата уже восприняло элементы эллинской культуры, обычаи Древней Персии казались ушедшими в прошлое. Однако на заре своего существования все ближневосточные культуры резко осуждали безбрачие как противоречащее семейному и религиозному долгу. На обширном пространстве Персидской империи, раскинувшейся до самого Средиземного моря, диктовала свои законы книга Саддар («Стоглав») — одно из первых практических наставлений маздеизма, включавшее предписания как религиозные, так и связанные с каждодневным бытом. Эта книга стала известна на Западе благодаря латинскому переводу Томаса Хайда (Historia religionis veterum Persarum — «История религии древних персов», 1700).
Восемнадцатое предписание Саддара касается брака: «Необходимо, чтобы мужчина в молодости позаботился о том, чтобы жениться и родить сына, а женщина должна всячески пестовать в себе желание выйти замуж». Разъяснение гласит, что «любое дело и благодеяние», совершенное детьми, считается совершенным и их родителями, точно так же, как то, что они сделали собственными руками. Слово pûr (сын) звучит почти так же, как pûl (мост). Дети, таким образом, это не только мост между поколениями, но и мост в вечную жизнь для родителей — знаменитый мост Кинвад в иной мир.
Того, у кого нет детей, называют «человеком, мост которого обрублен»: для него закрыта дорога в иной мир. Он так и останется у входа на мост Кинвад. Даже если он сам, своими руками, сотворил немало добрых дел, «они не будут ему зачтены», ибо дети — это естественная «замена» отца и матери при отправлении религиозных ритуалов. Если детей нет, ритуалы не могут быть соблюдены. После смерти перед каждым человеком у входа на мост Кинвад появляется архангел и вопрошает: «Оставил ли ты зримое продолжение себя на земле?» Если нет, то все остальные оттолкнут этого человека и пройдут через мост, «а его душа останется на месте, полная тоски и тревоги».
В столь строгом суждении есть и лазейки: осуждаются не только холостяки, но и бездетные семьи, то есть речь идет не о намерении, а о результате. Саддар говорит о том, что человек, неспособный зачать или родить ребенка, может взять приемного. Если у него нет приемных детей, то после его смерти жрецы и близкие могут назначить кого-либо в дети умершему. Тут уже речь идет об обязательстве по отношению к усопшему: если им пренебречь, то душа так и останется у моста Кинвад поджидать и горько упрекать тех, кто мог бы ей помочь, но не сделал этого. Доброе дело по отношению к умершему зачтется ангелом и поможет пройти по мосту, а те, кто не сделал этого, останутся, в свою очередь, стоять у входа на мост. [15] Saddar, chap. 18, éd. West, 1987, pp. 278–281.
Вот утешение для холостяка, вот религия, которая возлагает действительно настоящую ответственность на священнослужителей.
Культурное наследие: иудеи
Во II веке в Палестине жил Шимон бен Азай, и был он танна [16] Tanna («образование») — учитель Мишны; первая часть Талмуда состоит из кодификации устного закона. Шимон бен Азай — учитель ( tanna ) третьего-четвертого поколения (II век н. э.). См. статью, посвященную ему В. Бакером в Jewish Encyclopedia , New York et Londres, Funk & Wagnalls, 1902, t. II, pp. 672–673.
— известный и уважаемый ученый, толкователь священных книг, чьи изречения во множестве вошли в Талмуд. Его ученое призвание было столь велико и всепоглощающе, что он отложил на неопределенное время женитьбу на дочери своего учителя рабби Акибы.
Такое, судя по всему, случалось нередко. В Талмуде часто говорится о молодом муже, который оставляет новобрачную в ночь после свадьбы ради 12 лет учения. Сам рабби Акиба в свое время поступил точно так же и вернулся к невесте через 12 лет с 12 тысячами учеников. По возвращении он услышал разговор своей жены с ее отцом: она не сетовала на судьбу, но выказала готовность ждать еще 12 лет. Рабби ушел, даже не повидавшись с ней, и вернулся еще через 12 лет, уже с 24 тысячами учеников. Впоследствии его жена передала такую же готовность своей дочери, дочь не хотела оказаться менее стойкой, чем мать, и последовала ее примеру. «Овцы идут друг за другом, а дочь — за матерью», — говорится по этому поводу в тексте. Увы, дочь рабби Акибы напрасно ждала Шимона бен Азая: он так и не отвлекся от своих ученых занятий и не женился на ней. [17] Aggadoth du Talmud de Babylone , ordre Nachim, Ketouboth, 20–13, trad. A. Elkaïm-Sartre, Paris, Verdier, 1982, pp. 640–642.
Читать дальше
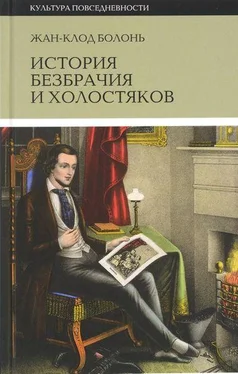
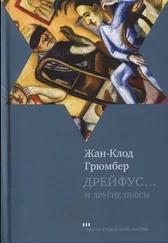


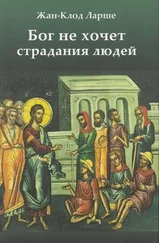
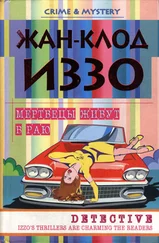
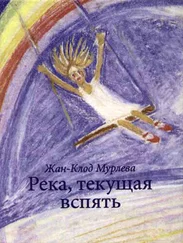

![Жан-Клод Мурлева - Джефферсон [litres]](/books/390425/zhan-klod-murleva-dzhefferson-litres-thumb.webp)
![Жан-Клод Грюмбер - Самый дорогой товар [Литрес]](/books/432025/zhan-klod-gryumber-samyj-dorogoj-tovar-litres-thumb.webp)