В 1919 г. содержание учебников было вновь пересмотрено. И теперь национальный состав империи выглядел следующим образом: «Большую часть народа составляет народ Ямато численностью более 54 миллионов человек. Кроме этого в Корее проживает около 16 миллионов корейцев, на Тайване – более 100 тысяч аборигенов и более 3 миллионов мигрантов из Китая. На Хоккайдо живут айны, а на Сахалине – айны и другие аборигены. Все эти народы отличаются друг от друга, но все они являются в высшей степени «верноподданническими имперскими народами» [484].
Учебники были предназначены для детей, но и взрослые японцы тоже, естественно, должны были знать и разделять официальную точку зрения. После присоединения Кореи в газетах и журналах стали широко говорить о том, что японцы и корейцы имеют общие этнические и культурные корни. Поиск сходства между двумя народами сделался модной темой, хотя еще совсем недавно всякий уважающий Японию японец открещивался от такого «сомнительного» родства. Идея о том, что корейцы и японцы имеют общее происхождение, восходит к эпохе Токугава. Так, например, конфуцианский ученый То Тэйкан (1732–1797) говорил о том, что еще во времена первоимператора Дзимму у японцев и корейцев были единые язык и обычаи, однако впоследствии император Одзин основал новую, чисто японскую династию. Мысль была высказана, однако влиятельный нативист Мотоори Норинага заклеймил ее как «речи сумасшедшего». Не нашла она поддержки и у других мыслителей того времени. В 1890 г. историк Хосино Хисаси (1839–1917) опубликовал скандальную статью, в которой доказывал, что японскую династию основал «глава Силла», а Япония и Корея когда-то представляли собой одну страну. По своему размеру это была не статья, а книга, которую обычно публикуют в журнале в нескольких номерах, однако, предвидя гневную реакцию публики, издатели решили закрыть глаза и броситься в ледяную воду сразу [485].
Присоединение Кореи резко изменило общую интеллектуальную атмосферу, характеристики которой во многом определялись правительством. Теперь ученые и журналисты принялись наперебой выискивать корейский элемент в мифах «Кодзики» и «Нихон сёки», они выявляли близкое родство японского и корейского языков, общие черты в физической антропологии двух народов. Археологи и историки находили «корейский след» в древней японской культуре (керамика, архитектура, произведения буддийского религиозного искусства) и истории (например, культуртрегерская деятельность корейских мигрантов при японском императорском дворе в древности). Подчеркивалось, что согласно генеалогическим спискам «Синсэн сёдзироку» (815 г.) треть японской элиты составляли корейские и китайские мигранты. Говорилось и о том, что в жилах императрицы Дзингу Когу по материнской линии текла корейская кровь, а супруга императора Камму тоже имела корейские корни. На этом основании утверждалось, что нынешние корейцы в состоянии «подтянуться» до японцев. Не были забыты и предания о завоевательном походе императрицы Дзингу Когу в Корею, и тесные отношения между Ямато и древнекорейскими государствами (Имна, Пэкче). Наиболее радикальная точка зрения заключалась в том, что наряду с японцами корейцы тоже являются потомками синтоистских божеств [486].
Таким образом, присоединение Кореи выглядело в общественно-государственном сознании в значительной степени как восстановление изначальной (т. е. «нормальной») ситуации совместной истории, – ситуации, наблюдавшейся еще в глубокой древности. Практическим воплощением этой идеи стал «династический брак» между вывезенным в Японию корейским наследным принцем Ли Юн и дочерью японского принца Насиномото (1919 г.). И это при том, что собственной монархии в Корее уже не существовало.
«Силовой» подход Фукудзава по отношению к интеграции инородцев был отвергнут. То же самое касается и христианского глобализма. Возобладала другая идея: миссия японского народа – нести «свет» цивилизации другим народам. Корейцы попали в их число, т. е. следует научить их японскому языку, передовым агротехникам, стилю жизни и верноподданничеству по отношению к императору, подтягивать их к своему культурному уровню, и тогда они станут полноценными членами японской империи, вольются в единую семью. Одни идеологи говорили, что меньшинства станут настоящими «братьями» (будут ассимилированы), другие настаивали, что они получат статус «приемных детей». Второй подход особенно показателен.
Коренным свойством японской мысли эпохи Токугава являлось то, что общественный порядок обеспечивается вовсе не «братством», а строгой иерархией, ранжированностью. В том обществе было трудно обнаружить двух человек, которые обладали бы абсолютно равным статусом. В Японии начала XX в. социальная дифференциация была проведена достаточно последовательно. Основной метафорой, с помощью которой описывался социум, была метафора патриархальной семьи. Эта «семейная метафора» была в конце концов распространена и на корейцев. Их объявили «приемными детьми» (ёси) японцев. Такое позиционирование корейцев идеально отвечало сложившейся ситуации: с одной стороны, корейцы включались в японскую семью, а с другой – они не признавались кровными родственниками японцев. Родители, разумеется, должны заботиться о приемыше, но и ребенок должен всегда помнить о милости, которую оказали ему приемные родители. В японском обществе периода Токугава, в отличие от Китая и Кореи, институт усыновления был явлением обычным, он широко использовался для укрепления связей между семьями и кланами. Главы семей (включая князей) брали приемных сыновей и в том случае, если у них не было наследников мужского пола – в противном случае они теряли свой социальный статус и недвижимость.
Читать дальше
![Александр Мещеряков Terra Nipponica [Среда обитания и среда воображения] обложка книги](/books/393699/aleksandr-mecheryakov-terra-nipponica-sreda-obitani-cover.webp)


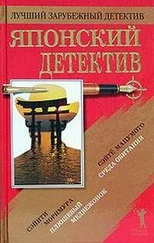
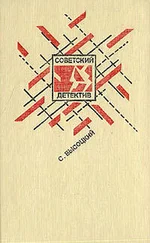


![Иоганн Брандштеттер - Бабочки. Основы систематики, среда обитания, жизненный цикл и магия совершенства [litres]](/books/436983/iogann-brandshtetter-babochki-osnovy-sistematiki-s-thumb.webp)


