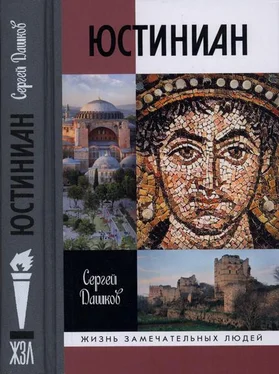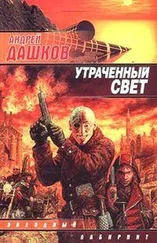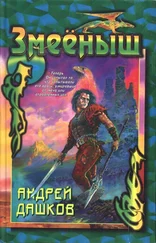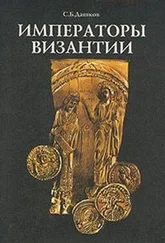То, что буквально с первых дней своего царствования Юстин I занялся религиозными проблемами, вполне естественно. Византийцы вообще очень интересовались религией. Григорий Нисский, живший незадолго (по историческим меркам) до Юстиниана, саркастически писал: «Всё полно таких людей, которые рассуждают о непостижимых предметах, — улицы, рынки, площади, перекрестки; спросишь, сколько нужно заплатить оболов, — философствуют о рожденном и нерожденном; хочешь узнать о цене на хлеб — отвечают: „Отец больше сына“; справишься, готова ли баня, — говорят: „Сын произошел из ничего“» [156] Памятники… IV–IX. С. 13.
. Для людей того времени вопрос исповедания веры был важнейшим, и основные различия между православием и теми же монофиситством и несторианством понимал даже такой малограмотный солдат, как Юстин. А вот во что поверить трудно, так это в способность императора вникнуть в богословские тонкости и досконально разобраться в нюансах многочисленных толков христианства. И тут его «вложения» в учебу племянника стали приносить плоды: в окружении Юстина присутствовал человек, которому он мог доверять и который способен был дать верный совет в таком щекотливом и опасном деле, как религиозная политика. Мы вряд ли ошибемся, предположив, что с самого начала правления Юстина I именно Юстиниан был в данном вопросе одним из главных действующих лиц — если не самым главным. Именно поэтому, когда император в конце 518 года вступил в общение с папой Хормиздом по поводу прекращения «схизмы Акакия», среди писем из Константинополя оказалось и послание Юстиниана. Сохранилось ответное письмо Хормизда, адресованное ему как «комиту доместиков». Юстиниан наряду с Келером, Виталианом и племянником покойного Анастасия Помпеем торжественно встречал легатов, прибывших из Рима в Константинополь 24 марта 519 года.
Юстиниан писал папе и годом позже. Во-первых, против исключения из диптихов епископов, замещавших столичную кафедру после Акакия и не осудивших его (на чем настаивал папа). Письмо Юстиниан подготовил очень осторожное и взвешенное: он рассуждал о том, что для установления церковного мира вполне достаточно анафемы Акакию (соавтору «Энотикона»), но преследование Македония и Евфимия, а также других епископов, вина которых состояла лишь в следовании государственной политике в отношении «Энотикона», избыточно, «ибо тот врач, по справедливости, наиболее удостаивается похвалы, который спешит так залечить застарелые язвы, чтобы из них не образовались новые раны» [157] Курганов , 2015. С. 279.
. В конечном итоге именно Юстиниан добился своего: уважаемые православными Востока за свою подвижническую жизнь и антимонофиситскую позицию Евфимий и Македоний остались в диптихах. Второй темой, с которой Юстиниан обратился к папе, было добавление слов «един из Троицы плотью пострадал» в формулы, утвержденные Халкидонским собором. Прибавку эту пытались сделать Виталиан и так называемые «скифские» монахи из его окружения, что сначала было встречено при дворе Юстина с неудовольствием. Но Юстиниан, увидев в этой формуле возможность компромисса с монофиситами, быстро поменял свою точку зрения и данную форму если не принял окончательно, то готов был обсуждать.
Теопасхизм и Юстиниан
Страдания Иисуса были одним из важнейших вопросов, волновавших умы позднеантичных и средневековых религиозных мыслителей. Кто же все-таки страдал? Бог? Человек? Богочеловек?
Согласно канонам официального православия Бог страдать не мог. В самом деле: если Бог страдает, то какой же он Бог?
Соответственно, анафемы считавшим, что Христос страдал божественной природой, были сделаны еще на заре христианства.
Поэтому когда в V в. по инициативе столичного монаха Петра Кнафея была предпринята попытка добавить в «Трисвятое» (в церковнославянском варианте «Святый Крепкий, Святый Безсмертный, помилуй нас») «распныйся за ны», то есть «распятый за нас», православные это теопасхитское добавление не приняли, сочтя его монофиситством. Ведь Трисвятое относится ко всей Троице, и получалось, что распята как бы и божественная сущность тоже, то есть человеческая как-то потерялась, слившись с божественной. Попытка сделать такую прибавку при Анастасии дважды привела к беспорядкам в Константинополе (в 510 г. и, особенно сильным, в начале ноября 512 г.).
Юстиниан же рассчитывал, что другая, более точная формулировка «один из Троицы плотью пострадал», с одной стороны, не противоречит православию, а с другой — должна устроить монофиситов, поскольку если это самое Лицо страдало, то оно страдало «комплексно», едино — но плотски. И был это Иисус Христос, ибо он единственный из Троицы «воспринял плоть», сочетая человеческую и божественную природы.
Читать дальше