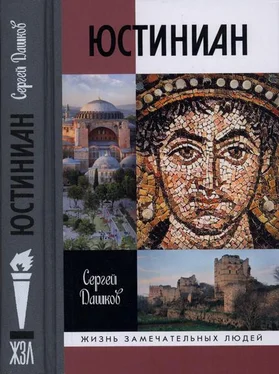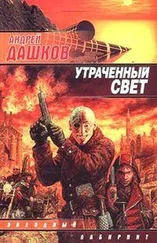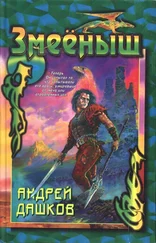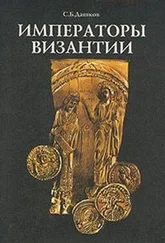* * *
Помимо театра и цирка юноша, прибывший в Константинополь, не мог миновать публичных домов, харчевен, уличных развлечений и бань.
В царствование Анастасия «дома терпимости» были повсюду. В ранней Византии такое заведение вполне могло находиться в одном квартале с церковью: подобное соседство никого не смущало. Некоторые публичные женщины обитали в помещениях Сфендоны, так что в дни ристаний особо нетерпеливый клиент мог посетить их после скачек или даже в обеденный перерыв.
Античный мир относился к занятию проституцией и использованию подобного рода услуг, в общем, снисходительно. «Без денег флейта не склонит гетеру, и лира не привлечет тех, кто продает свою любовь… вы желаете красоты, а я люблю деньги. Так вот давайте же без брюзжания угождать обоюдным желаниям» [142] Византийская любовная проза. С. 34.
, — сказано в «Любовных письмах», написанных неким Аристенетом не позднее Юстинианова века. Христианство проституцию осуждало, но, как ни парадоксально это звучит, худшим считалось поведение клиента публичной женщины. Дело в том, что церковь порицала сладострастие. Поэтому мужчина, особенно если он состоит в браке, ищущий продажной любви и тратящий деньги не на что-то душеполезное, а на свое «плотское похотение», безусловно, худший грешник. «Какого гнева не заслуживаешь ты, когда даешь деньги блуднице, но проходишь мимо нищего без внимания?!» — восклицает по этому поводу страстный Иоанн Златоуст [143] Иоанн Златоуст , Беседы на Евангелие от Иоанна. Беседа 42. Т. 8. Кн. 1.С. 283.
. Что касается проститутки, то если она пошла на панель из-за бедственного положения, церковь относилась к ней с пониманием и сочувствием, а раскаянию радовалась особо — ведь «сладострастный» грех требовал больших усилий для спасения, стало быть, и результат ценился выше. Впоследствии многие из таких женщин, встав на путь добродетели, ревностно служили Богу и даже делались святыми (Мария Египетская, Таисия, Пелагия).
Проститутки низшего ранга презрительно именовались «пехотой». Стоимость их услуг была невысока — Прокопий говорил о цене в «три обола» [144] Заработок батрака составлял восемь — десять фоллов (оболов) в день, каменотеса — двадцать. Три обола в день получал поденщик-ткач, если едой его обеспечивал наниматель.
. Имелись, естественно, и «гетеры» высшего ранга: одевавшиеся в шелк, украшенные золотом и путешествовавшие в носилках на плечах рабов или верхом. Вот, например, как выглядел выезд на променад успешной антиохийской танцовщицы того времени. Оставляя за собой шлейф ароматов мускуса и мирры, она ехала на добром иноходце, набросив покрывало на плечи (а не на голову, как предписывалось нормами морали обычной женщине), в пышном наряде, «так что всюду сверкало на ней только золото, жемчуга и драгоценные каменья, а нагота ног была украшена перлами. Пышная толпа слуг и служанок в дорогих одеждах и золотых ожерельях сопровождала ее; одни бежали впереди, другие шли следом. Особенно суетный люд не мог досыта налюбоваться ее нарядом и украшениями» [145] Византийские легенды. С. 18.
.
Желающий мог за деньги разделить ложе с ребенком. Как уже было сказано, во времена молодости Петра Савватия нижнего возрастного предела для занятия проституцией не существовало — как и уголовного наказания за педофилию. Девочка могла сойтись с мужчиной, когда ей это позволяли физические возможности. Так повелось издревле: например, в романе римского писателя I века Петрония «Сатирикон» есть сцена лишения девственности ребенка «на вид лет семи, не более» (ребенком же!), притом одна из героинь хвастается тем, что и она сама была вряд ли моложе, когда впервые отдалась мужчине [146] Петроний . XXV. С. 44.
. Мария Египетская «вышла на улицу» в 12 лет.
У сладострастников имелась возможность предаваться утехам и с юношами. Греческий античный мир не видел ничего предосудительного в союзе двух мужчин, особенно если в его основе, помимо похоти, лежало духовное начало. Традиционное римское общество в пору язычия к однополым контактам относилось, в общем, терпимо, хотя и с оттенком некоего, если так можно выразиться, недоумения. То есть гомосексуализм пороком не считался, но это расценивалось как что-то не вполне свойственное Риму, занесенное с Востока или от греков излишество, вычурность. Над этим могли подтрунивать. Например, младший современник Юстиниана, историк, ритор и поэт Агафий Миринейский, подражая древним поэтам, среди своих многочисленных эпиграмм оставил такую:
Читать дальше