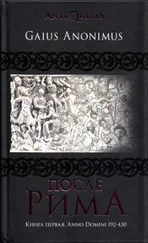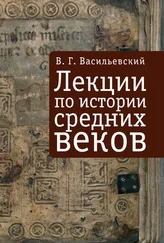Главнейшей стратегической точкой на карте фронтов Столетней войны к 1428 году стал город Орлеан, все еще находившийся под контролем верных дофину Карлу сил. Переоценить значение Орлеана крайне сложно — владевший городом контролировал дороги на юг и юго-запад. Если бы англичане перешли реку Луару и соединились с войском в принадлежавшей им Гиени, то открылась бы перспектива широкого наступления в южные провинции. Оборонять их правительство в Бурже за отсутствием серьезных укреплений не могло. Словом, взятие Орлеана и, главное, каменного моста через реку означало для остатков Франции Валуа стратегическое поражение и окончательную потерю государственности.
Летом 1428 года регентский совет под председательством Бедфорда принял решение любой ценой захватить Орлеан и перейти Луару. В Кале высадилась армия под командованием графа Солсбери, которая в октябре подошла к городу, попутно захватив крепости на Луаре, а сам Бедфорд со ставкой переехал из оккупированного Парижа в Шартр — поближе к месту действия. Началась осада, к которой французы успели подготовиться. 21 октября граф Солсбери скрытно переправил на противоположный берег небольшой отряд, захвативший форт Ла Турель, прикрывавший мост. Французский командующий, Жан бастард Орлеанский, впоследствии более известный как граф Дюнуа (титул он получил только в 1439 году), приказал разрушить несколько пролетов моста, и город остался без подвоза продовольствия. Впрочем, положение англичан было ничуть не лучше: снабжение оказалось из рук вон плохим, на дорогах было неспокойно, в окрестностях орудовали отряды сторонников дофина и партизаны из числа крестьян, которым английские грабежи давно стояли поперек горла.
В феврале 1429 года произошла так называемая «Битва селедок» — попытка французов перехватить обоз из трехсот телег с провиантом, отправленный из Парижа в помощь осаждающим. Как верно заметил историк Жан Фавье, закончилась эта история тем, что французы опозорились, а осаждающие ничего не выиграли:
«...Карл Бурбон, граф де Клермон, стоял с армией в Блуа. Он решил перекрыть путь селедочному обозу — как говорили, из трехсот подвод, — который Фастольф вел к Орлеану для пропитания осаждающих во время поста. Но Карл имел глупость бросить в бой своих шотландцев, не дождавшись вылазки орлеанцев, на которую мог рассчитывать и знал, что может. Англичане успели заметить его приближение и укрепились близ Рувре-Сен-Дени, укрывшись за подводами. Конница графа де Клермона стала посмешищем, дав себя перебить среди перевернутых бочонков с сельдями... Горожане остались одни, едва смея надеяться, что придет новая армия, чтобы снять с города осаду. Моральный дух упал ниже некуда. Осада не могла длиться вечно. Теперь защитникам не хватало провизии и боеприпасов. Но они знали, что капитуляция — это резня, пожар, грабеж».
Тем не менее Дюнуа начал раздумывать о сдаче города, хотя и отлично понимал, каковы будут последствия — англичане волной выкатятся на юг и запад, в Аквитанию и Лангедок, соединившись со своими силами в Гиени, а «буржское королевство» закончит свои дни в ничтожестве. Дофин Карл, в это время находившийся в Шиноне, тоже потерял последнюю надежду — среди окружения принца все чаще раздавались голоса о необходимости немедленного бегства в Шотландию или Кастилию, а это означало бы окончательную гибель Франции и исчезновение королевства из мировой истории.
Вот на таком безнадежном фоне и начали происходить невероятные, фантастические странности, связанные с никому не известной девушкой из деревни Домреми.
Можно с уверенностью сказать, что феномен Жанны д’Арк абсолютно уникален — никогда ни до, ни после ее внезапного появления, подобного вспышке сверхновой на небосклоне мировой истории, сопоставимых событий не происходило. Да, мир видел беззаветных героев и творящих чудеса святых, но они не вызывали столько споров, сомнений и вопросов, как Жанна. Дискуссия о том, что же это было в действительности, ведется практически шесть веков, то утихая, то снова разгораясь.
Жанне посвящены десятки книг и исследований, от сухих и скучных биографических трактатов до конспирологических сочинений, но точного ответа на приведенный выше вопрос так и нет. Поставить финальную точку в «деле Жанны д’Арк» мешает нефакторизуемая переменная — признаваемый даже скептиками-материалистами элемент мистики, частица сверхъестественного, — несомненно, присутствовавшая в событиях, развернувшихся весной 1429 года и завершившихся костром в Руане 30 мая 1431 года.
Читать дальше
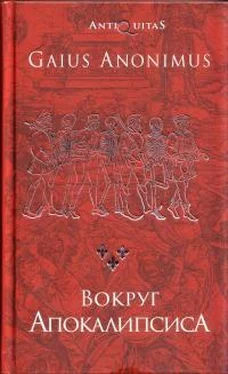







![Гай Аноним - Вокруг Апокалипсиса. Миф и антимиф Средних веков [оптимизированный вариант]](/books/393064/gaj-anonim-vokrug-apokalipsisa-mif-i-antimif-sred-thumb.webp)