В 1577–1579 гг. в Коловери при М. И. Бурцове свою службу начинал Андрей Бурцов [519] Памятники истории Восточной Европы. Источники ХV–ХVІІ вв. Т. 3. № 68. С. 186.
. В 1597–1598 гг. он был головой в Ивангороде [520] РК, 1475–1598 гг. С. 534. Л. 814 об.
.
В 1583 г. дьяк Михаил Бурцов входил в состав русской делегации для проведения переговоров со шведами на р. Плюсе о мире [521] Мятлев Н. В. Челобитная Михаила Татищева И ЛИРО. М., 1907. Вып. 1. С. 10.
.
Таким образом, в XVI в. воинская деятельность Бурцовых и их однородцев в северо-западных уездах Русского государства имела большую историю. Испомещение в Полоцком повете стало всего лишь одним из эпизодов в служебной карьере Бурцовых.
Интересно отметить, что служебные связи Бурцовых с Псковом и казачеством продолжились и после окончания Ливонской войны. Так, например, в приходной книге Новгородской четверти 1619/20 г. сохранились данные, что «с Москвы ж ис Казачья приказу со псковитином с Федором Бурцовым да казачьим атаманом с Ываном Заборским новгородцким атаманом и есаулом, и казаком на жалованье на 127-й год прислано в додачю сорок два рубля восмь алтын» [522] Приходо-расходные книги московских приказов 1619–1621 гг. / Сост. С. Б. Веселовский; подг. к печати Л. Г. Дубинская и А. Л. Станиславский; под ред. B. И. Буганова и Б. В. Левшина. М., 1983. С. 14. Л. 21 об.
.
В 1570 г. в Турунтовской волости «в Замошье около Ситно» были испомещены стрелецкие пятидесятники, подчинявшиеся сотнику Ивану Бурцеву. Среди них был его родственник — Смирной Юрьев сын Боландин. Ему во временное владение было передано поместье, которым ранее распоряжался пятидесятник Рахман Родионов. Это поместье состояло из деревень Сергеево, Иваново, Черное и Ходаково (две последние находились «надо озером над Черным» вблизи от р. Дриссы), Власьево и Скорубино (они — «над озером над Белым»), Захарово и селище Максимово. Всего за С. Ю. Боландиным числилось «6 деревень, да селищо, да пустошь, а в них 7 дворов пустых, пашни добрые земли перелогом 44 чети в поле, а в дву потомуж, сена по лугом и по дубровам 120 копен, лесу пашенного поросли 21 десятина, да лесу ж пашенного и непашенного в розных местех в длину 4 версты, а поперег на версту» [523] Иван Грозный — завоеватель Полоцка. С. 64–66. Л. 15–17, С. 213–215. Л. 182–184.
. Ему учинили оклад в 40 четий и «мера его за ним вся сполна» [524] Там же. С. 215. Л. 184.
.
По соседству с С. Ю. Боландиным такие же обезлюдевшие поместья на 40 четей получили два других пятидесятника — Алеша Онцифоров и Аникей Тимофеев сын Левонов [525] Ср.: Там же. С. 63–66. Л. 14–17 об., С. 212–216. Л. 180 об. — 185 об.
. Без крестьян эксплуатировать эти поместья было тяжело. Поэтому им дополнительно давали земли в соседних волостях.
ГРИБАКИНЫи ЖУКОВЫ. Грибакины были детьми боярскими, служба которых в Русском государстве с конца XV в. была связана с его северо-западными уездами.
В писцовых книгах они упоминались как московские помещики в Новгородской земле. В конце 1490-х гг. владения Грибаки Жукова располагались в Турском и Которском погосте Шелонской пятины Новгородской земли [526] Новгородские писцовые книги, изданные Археографической комиссией. СПб., 1886. Т. 4; Переписные оброчные книги Шелонской пятины. Стб. 62, 63–64, 66, 68, 95–98.
.
В майском наказе 1492 г. в несостоявшемся посольстве дворового сына боярского И. Н. Берсеня Беклемишева были записаны жалобы «великого князя людемъ Новогородские земли на Королевыхъ людей». Согласно источнику, «наехавъ» со стороны Полоцка «на Луцкую волость, на Хрянской станъ, на Селивана на Власьева, да на Зенка на Ильина, да на Ивана на Жукова, да на Михайла на Оксентіева пана Яновы люди, Яманъ да Посывня да Станко Волосатой да Голяшъ съ товарищи, деревни выграбили, шестьнатцать головъ свели, а восмь человекъ повесили, а грабежу взяли на двесте рублевъ на рижскую» [527] В этот период времени откровенному грабежу подверглись не только служилые дети боярские и их люди, но и великолуцкие купцы, которые возвращались после торговли домой. Интересно отметить, что среди их обидчиков оказался полоцкий купец Лукиан Скорина, отец белорусского первопечатника Франциска Скорины (СИРИО. Т. 35. С. 67).
. Этот И. Жуков мог быть братом или близким родственником Г. Жукова.
В 1515/16 г. среди послухов в купчей грамоте И. А. Колычева у С. З. Ворыпаева на село Некиматово (Екиматово) и деревню Тетевкино в Каневской волости Коломенского уезда были записаны Черемис Федоров сын Кренев, Иван Иванов сын Сукина и Скурат Грибакин сын Жуков. На ее обороте отмечено: «По сеи купчей грамоте яз Скурат Грибакин послух и руку свою приложил» [528] Акты Русского государства, 1505–1526 гг. / Сост. C. Б. Веселовский и др.; отв. ред.: А. А. Новосельский, Л. В. Черепнин. М., 1975. № 125. С. 124 [Подлинник].
. В феврале 1517 г. на пути из Пскова в Москву С. Г. Жуков был приставом у Дитриха Шонберга («Шимборка»), посланника магистра Тевтонского Ордена [529] Сб. РИО. СПб., 1887. Т. 53: Памятники дипломатических сношений древней России с державами иностранными: Памятники дипломатических сношений Московского государства с Немецким Орденом в Пруссии 1516–1520 г. / Изд. под ред Г. Ф. Карпова. № 2. С. 6.
. Благодаря этим свидетельствам источников можно установить, что Скурат был сыном Грибаки Жукова. Они были представителями одной из ветвей служилого дворянского рода Жуковых.
Читать дальше
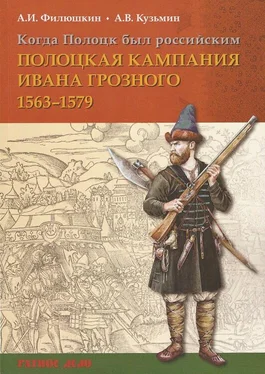

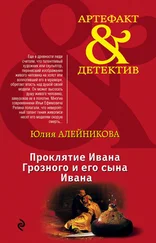
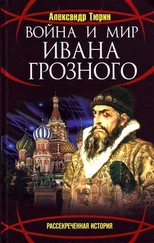


![Елена Арсеньева - Жены грозного царя [=Гарем Ивана Грозного]](/books/311435/elena-arseneva-zheny-groznogo-carya-garem-ivana-g-thumb.webp)
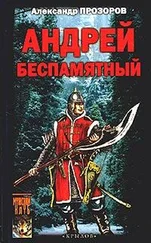
![Виталий Пенской - Полоцкая война [Очерки истории русско-литовского противостояния времен Ивана Грозного. 1562-1570] [litres]](/books/407508/vitalij-penskoj-polockaya-vojna-ocherki-istorii-russko-litovskogo-protivostoyaniya-vremen-ivana-groznogo-1562-1570-litres-thumb.webp)


